Женщины о Церкви: гонения на истинно-православных в XX в
По пунктам
- 20-е годы
- 30-е годы
- Маргарита Чеботарева: Аресты
- Монахиня Сергия: Тюрьма
- Вера Торгашева: Коллективизация
- Игумения Ксения: Колхозы
- Любовь: Собрания ночью
- Акилина Меньшова: Дети
- Наталия Гончарова: Пионеры
- Вера Сазонова: Арест священника
- Матрена Чеснокова: Молитвы без священника
- Александра Халчевская: Обыск
- Монахиня Сергия: Лагерь
- Александра Окунева: Молитва в лагере
- 40-е годы
- Александра Самарина: Война
- Анна Чеснокова: Прощение гонителя
- Вера Сазонова: При немцах
- Монахиня Сергия: Тайный постриг
- Анна Лаврентьева: «Монашки» в лагере
- Любовь: Во время войны
- Наталья Гончарова: Голосование, колхоз, школа, пионер
- Вера Сазонова: Тайные службы в Ленинграде
- Вера Торгашева: Священник-предатель
- Наталия Гончарова: Отказ работать
- Александра Самарина: Церковь в бараке
- 50-е годы
- Игумения Евфросинья Махрова: Поиски Церкви
- Матрена Рыбкина: о. Гурий
- Вера Сазонова: Аресты продолжаются
- Серафима Аликина: Службы в бараке
- Вера Торгашева: Штрафной барак
- Екатерина Дюкшина : Муж-исповедник
- Анна Кандалина: Освобождение
- Ксения Кравченко: После лагеря
- Матрена Рыбкина: «Тунеядцы»
- Мария Стасенко: «Богомолы»
- Христианка: Детство
- Зоя: Пришла милиция
- 60-е годы
20-е годы

Маргарита Чеботарева: Обновленцы
… в 1922 году стали у нас обновленцы по новому календарю служить. Как раз на Успение заставили заговляться по-новому и по-новому разговляться. А мама пошла к священнику: «Батюшка, что же нам делать?» — «А ваше дело: колокол зазвонил в церковь, вы и идите». — А был у нас в селе один дедушка Фома, раскулаченный, такой богобоязненный, и еще к нему пристали жители и девушки-чернички деревенские. Они крепко стояли и заставили их отслужить по старому стилю, и по-старому заговлялись, и по-старому разговлялись. Потом были у нас епископ Корнилий и Захария, «обновленцы», это до 1925 года, а потом владыка Петр (Зверев) приехал. А я пошла к Захарию книжки просить, сама ни благословения не беру, ничего, а книжки прошу. Ну, он мне ничего не дал. Мы любили книжки набожные читать, летом возьмем книжки — и в сад. Вот мы с Агнией взяли в церкви «Церковные ведомости» и прочли о безубойном питании человека, то-есть, чтобы никого не убивать, и вот мы сами перестали мясо есть. Ни у кого благословения не просили, ничего, просто сами бросили, и все.
В 1922 году собор заняли «обновленцы», а митрополит Владимир скончался в декабре того же года. А в 1925 году из Москвы прислали архиепископа Петра (Зверева). Мы на клиросе пели. Помню, мы пели многолетие Петру (Крутицкому) и Петру (Звереву). Владыка заставлял священников-«обновленцев» публично каяться перед амвоном и объяснять, что такое обновленчество. Вот он стоит на амвоне, а они перед ним, вот он говорит: «Скажи, чадо, что означает обновленческая церковь?» Они начинают объяснять. Объяснит несколько пунктов, а остальное — на духу каяться. А духовником им был поставлен отец Иоанн Ардаллионович Андриевский, который не принял обновленчества. Наша церковь в Гремячем недолго была обновленческой: новый стиль был только от Успения до Филипповского, да и то их на Успение заставили два раза служить, и по-новому, и по-старому. Может, у них внутри что и было, а только стиль был старый.
У нас два священника было: отец Павел, старенький, и отец Михаил, помоложе. Они и обновленчество приняли, и сергианство, а потом их все равно арестовали и дома отобрали у них.
Серафима Аликина: Раскулачивание
В двадцать седьмом году разгромили церковь, растащили иконы и церковную утварь. А потом началось раскулачивание. К нам пришла бригада из двенадцати человек во главе с бригадиром, она ходили по тем домам, которые наметила. Отбирали все, что считали нужным: иконы, одежду, посуду. У нас забрали две коровы, двух лошадей, двенадцать свиней, пятнадцать овец, кур, одежду. Коровы приходили, лошади, и нам приходилось их отгонять, после этого дрова уже таскали на себе, боялись неповиновения, потому что могли за это арестовать. Когда отбирали хозяйство, — это было как светопреставление, — крик, рев. А отец сказал: «Не плачьте и не жалейте. Так Господь дал!» А нас всех выгнали из своего дома, а дом был большой хороший пятистенок, он и до сих пор стоит, мы туда ездили на кладбище, на котором похоронен отец.
Валентина Яснопольская: Иосифляне
В 1929 году положение в Церкви было тревожным и неопределенным. Митрополита Иосифа, первым объявившего о неприятии Декларации и возглавившего Церковь «отделившихся», выслали в Устюжну, но других решительных мер со стороны гражданских властей пока не последовало. Личные контакты в среде «непоминающих» были затруднены, хотя на квартиру о. Феодора (Андреева), часто не зная о его смерти, продолжали писать и приезжать за разъяснением недоумений. Наталия Николаевна дважды ездила в Устюжну с поручениями к митрополиту Иосифу, наивно считая эти поездки конспиративными. Меня также дважды посылали в Старую Руссу и Великий Новгород. Квартира о. Феодора в «органах» называлась «главным штабом» и находилась под соответствующей опекой.
Мне запомнились двое длиннобородых и длинноволосых сибирских батюшек в громадных шубах, приехавших к о. Феодору, когда тот лежал уже смертельно больной. Его жена не отходила от постели больного, и мне приходилось этих и других вопрошавших знакомить с письмами и обращениями епископов, выступивших против Декларации. И таких недоумевающих и вопрошавших было много. Не все могли приехать, а почта служила ненадежной связью. Но все же какие-то контакты осуществлялись.
Я помню, меня дважды посылали в Старую Руссу к епископу Иоанникию. Никаких письменных материалов мне не давали из предосторожности. Обо всем надо было сообщать только устно. Казалось, что мой вид не может вызвать подозрений: 24 года, стриженая. Когда я пришла на квартиру к епископу, и келейник с лукавым видом спросил, какое у меня может быть дело к владыке, я чуть было не бухнула ему, что хочу венчаться в посту: это, вероятно, соответствовало бы моему виду, но, к счастью, сдержалась. Сам владыка очень внимательно меня выслушал, потом встал, поклонился мне и сказал: «Я поступлю так, как вы скажете». Я чуть не зарыдала: «Владыка, я только посыльный, как посмею вам указать». Потом направили меня к нему второй раз. Он не принял Декларацию.
Дважды посылали меня в Великий Новгород, где было несколько епископов, не помню их имен. И снова нельзя везти никаких писем, а надо все передавать только устно.
Осенью 1928 года к о. Феодору приезжал из Киева о. Анатолий Жураковский для обсуждения вопросов, связанных с Декларацией. Случилось так, что в это время к о. Феодору пришли с обыском, и он был арестован. Его гость во время обыска стоял за дверью проходной комнаты, где висел телефон, который, к счастью, ни разу не зазвонил, и о. Анатолия не заметили.
Следователь Макаров убеждал о. Феодора принять Декларацию, обещая за это обеспечить Церкви правовое положение. «Оставьте нам наше святое бесправие», — отвечал на это о. Феодор.
Несмотря на неуступчивость, о. Феодора в тот раз вскоре отпустили, вероятно, в связи с плохим состоянием здоровья.
Анастасия Лизунова: Собрания по домам
Церковь была в трех километрах от нас, в чувашской деревне Тымаклы. В церковь все мы ходили, пели на хорах, голоса у многих были хорошие. Церковь то закрывали, то открывали, и тогда служили там. Потом уж закрыли совсем, а священников забрали. Молились в доме у нас много, утром тебя за стол не посадят, если ты не помолишься. И вечером также. Отец мой неграмотный был, мать четыре класса кончила, и книг богослужебных у нас много было, потом все отобрали. У нас как молились: отец помолится, мать псалтырь немного почитает, а мне говорит: «Давай «Богородицу» почитай». В воскресенье мать соберет меня: «Беги в церковь». Молилась — не молилась, а около церкви побегаю. Вот такая я была молельщица.
А у нас, действительно, часто гости бывали, приходили, окна закрывали, читали книги и молились. Федор Михайлович Галкин, глубоко верующий, приходил из деревни Удельное-Енорускино, какой-то молодой человек с книгами появлялся, из села Черемухи приезжал дядя Ваня, божественный человек, связанный с Афоном: он отправлял туда посылки, а оттуда ему присылали книги.
Когда все собирались к нам и читали, отец вешал замок на дверь, сам садился во дворе возле окошечка и брал папиросу в руки. Они сидели, несколько человек, разговаривали и читали, а он сидел под окном, курил и отвлекал внимание: «Вы к Маше? А ее нет дома. Я сам ее сижу и жду».
Мать ведь портниха была, к ней приходили шить. Меня обычно из дома выгоняли, как шпиона молодого, но, если я вó время пряталась, то слышала, о чем они говорили.
С двадцать девятого по тридцать третий год, когда колхоз уже был, к нам тоже приходили, но очень скрытно. Уже боялись. Отец выходил и проверял — закрыто ли все. Одеялами окна завешивали, сидели и разговаривали.
30-е годы

Маргарита Чеботарева: Аресты
Священник Михаил, что помоложе, вышел в церкви и говорит: «Вот, у нас теперь митрополит Сергий, такой хороший, умница такой, а Алексей-то Буй, епископ, он молодой такой, неопытный» (они уже знали, что он отказался от декларации). А Сергий, значит, такой хороший. А народ-то что понимает? Ничего не понимает. А те, которые обновленчества не хотели, они и это не приняли, несколько человек, ревностные такие за старое. Дедушка Фома еще живой был, он нам декларацию принес, я ее в руках держала. И вот, помню первые слова: «Радость ваша — радость наша». Выстрел из-за угла на вас мы принимаем, как на нас. Я так всех слов не упомню, но помню слово «лояльное», а мы дедушку спрашиваем «Что это такое?» А он говорит: «Это значит рука об руку с властью».
Этот дедушка Фома и еще один был, Стефан, они набожные были, все Библию читали, и они очень старались нас от сергианской церкви отвести. Мама-то нас в церковь ведет, не понимает… Мама наша говорила: «Вы мне хоть десять Евангелий разложите, а я одно знаю: мои родители в эту церковь ходили, и я буду ходить». Не понимала. А люди наши деревенские видят, что мы в церковь идем, так и они за нами идут, а дедушка Фома старался нас отводить. Стали мы к дедушке ходить, он в городе жил у верующих людей. Он меня и привел к матушке болящей, Иегудииле, из Воронежского Покровского девичьего монастыря, лежащей прикованной к одру двадцать лет.
Сначала он привел к матушке Марионилле, она в то время только что из тюрьмы вышла, ей запретили принимать людей, тогда он повел к Иегудииле. Я, когда уходила из родного дома, волновалась, конечно, колебалась, а потом решила, что Господь важнее родительского крова. Пришла я первый раз к матушкам, а батюшка, иеромонах Иероним, их спросил — сама я пришла или они меня позвали; они говорят — сама; тогда он велел принять, говорит — значит, Бог привел. Отец Иероним меня облек в подрясник и благословил четками в 1933 году.
В то время провокации были, говорили: «Митрофановских мощей нету, там вата набита», — такое время. Комиссия приезжала, вскрывала склеп, ктитор был, присутствовал. А ктитор увидал матушкину послушницу и говорит ей: «Действительно, ваш Митрофан Воронежский — святой, его богоборцы вынули из гробницы, поставили к стенке, дали ему дикирий и трикирий, и он действительно держал». А постригал матушку в мантию владыка Петр (Зверев), ему голос был: постричь Марию, и он постриг. Сколько лет потом она сидела, и по ссылкам скиталась!
Владыку Петра тоже сторожили рабочие, не допускали его арестовать, и до дому провожали, и дом охраняли, так его любила паства и рабочие, — тогда ведь все мужчины были верующие, — а потом подошло все-таки, и его арестовали. Тогда многие епископы были под домашним арестом: архиепископ Прокопий, епископы Дамаскин, Митрофан, Иоасаф, Серафим, Парфений. В 1936 году отец Иоанн Андриевский приезжал к последнему епископу Иоасафу, он проживал под домашним арестом в городе Камышине, и он ему тогда вручил церковные ключи управления.
В 1933 году еще кое-где были наши приходы, не «сергианские»: иерей Пантелеимон служил на станции Колодезь, он стойкий был, он еще псаломщиком обновленчества не принял и «сергианства» он не принял. Отец Емельян в Малышеве служил, а отец Иоанн Скляров в Ульяновке служил, а отец Иероним в селе Ивановка, и вот в одну ночь в 1935 году арестовали всех священников. А пятый с ними был один старичок, его на вольную ссылку. А предала их одна женщина, монахиня считалась, она с нами становилась петь, и говорили про нее, что она предает, мы ее так боялись, тряслись. Елена ее звали. Она говорила: «Я всех в Царствие Божие гоню». И ей, видимо, платили за это. Девять месяцев они просидели, и был суд закрытый, три дня длился.
Матушку Триену тоже в эту ночь забрали. Матушка Триена в миру была Татьяна Петровна Кумская, она монахиня Покровского монастыря. Вот пришли ночью, все перетрясли, копались, ее забрали, а я с болящей матушкой осталась. Болящую не тронули и меня не тронули. А нас предала монахиня из Покровского монастыря, она матушку Триену знала, ведь из одного монастыря, а эта монахиня сидела в тюрьме, и ее там заставили предавать. Вот она все к нам ходила: дайте книжечку почитать, — такой предлог. А у нас щель была в двери, так она подглядывала.
У нас ведь священники бывали, отец Иоанн служил, один раз три священника служили, потом, когда иеромонах Иероним приходил, двух постригали в инокини, а меня тогда послушницей одели, и все это было известно там. Принесли к нам как-то ребенка, добавить молитву к крещению, отец Пантелеимон делал; другой раз больную нужно было причастить, и монашенки тоже попросились причаститься, это тоже было известно. Стали они матушке Триене говорить: «У вас крестили». А она же из монастыря, привыкла все по правде, как дитя: «Нет, — говорит, — мы не крестили, мы только добавление сделали», — вот так сказала.
Вот, я матушке передачу отнесла и Псалтырчик передала маленький, а прихожу домой — мне повестка идти в тюрьму. Я трясусь, думаю, это из-за Псалтыри, а прихожу — другое говорят. Прямо начали сразу: «Вот, тебя постригали?» — «Нет, — говорю — меня не постригали». А это было в этом сером доме, по пропуску проходили, на 4 или 5 этаже.
Стали допрашивать: «Когда выехала из дома? Где остановилась жить? Священники у вас бывали?» — А я-то отказываюсь, потому что священников за это карали, что они по домам ходили причащать без разрешения. Им надо придраться, за что их судить.
А я говорю: «Нет, не было» — «А как больную причащали?» Я говорю: «Не знаю». — «А, ты что, хочешь, чтобы больную привели сюда?» Я тогда говорю: «Может, я на работе была, я ведь работаю, а только при мне не было». И следователь так и написал: «Священник при ней не бывал». И еще они мне говорили: «Ты молодая, там на суде столько будет народу, тебе стыдно будет. Мы тебя из ямы тащим, а ты сама в яму лезешь». Все увещевали.
Теперь второй следователь пришел. Тот начал крутить насчет пострига и насчет отца Иеронима: «Скажи, кого постригали?» А я отказываюсь. И, правда, меня не постригали, а только четки дали и платье стального света. А этих двух постригли, Агнию и Ермионию, близких наших. Следователь говорит: «Ну, ты расскажешь?» — «Да что я расскажу? Меня не постригали». Ну, они тащат из подвала отца Иеронима: «Ну, будешь говорить?» А я при нем говорю: «Буду говорить, что знаю, а что не знаю, чего не было, того не буду говорить». Уведут его, а я опять отказываюсь. Они опять его ведут. Наконец, на третий раз, он говорит: «Мань, да признавайся, я уже уморился ходить по порожкам». А они с матушкой Трифеной уже во всем признались по простоте, а к тому же на допросах терзают, так они уж сами признались.
Я говорю: «Меня не постригали, а платье-то мне подарили стального цвета, так потому, что я за ними ухаживала». А он возьми и скажи: «Да значение-то одно». Хоть они все признали, но тех, постриженных, они не назвали, и их не вызвали, только меня. А меня долго трясли, и паспорта не отдавали, все требовали, чтобы я признавалась. А какой лукавый этот второй следователь — сам написал и заставляет меня подписать: мол, я, гражданка такая-то, выехала двадцати лет из села Гремячева, остановилась у ныне арестованной гражданки Кумской. А ведь за наше время жизни вместе она мне много рассказывала про монастыри, про монастырскую жизнь, что опять будут монастыри и что это будет скоро.
А следователь на нее обвинение сочинял — дескать, известно, что с монастырями покончено, а она, мол, проповедует, что они опять будут скоро, и молодой это внушала.
И еще: кто жил в монастыре, хорошо слушался их назидания к монашеству. А я на эти слова говорю: «А я что, неверующая разве выехала? Я сама была верующая. ничего она мне не говорила, я сама была верующая». Он мне: «Ах, ты такая-сякая, мы тебя сошлем!» А я говорю: «А я свет посмотрю! Я нигде не была, так я свет посмотрю». — «А мы тебя посадим!» А у меня с собой был хлебушка кусочек. Я говорю: «Вот, у меня хлебушка кусочек, я сегодня поем, а завтра вы мне дадите». И никак не соглашалась. Он меня гонял-гонял, а я его никак не боялась.
Девять месяцев они просидели. А потом над ними суд был, где Митрофаньевский монастырь, как раз перед Пасхой. Я три дня ходила, три дня был суд. И вот я была довольна — они меня допросили и сказали: допрошенные свидетели могут присутствовать здесь. И я осталась и все слышала, что они говорили.
Вот слышу, один священник «сергианский» так стал отвечать: «Я служил не по убеждению, а потому что это моя профессия», — и его сразу освободили.
А отец Пантелеимон, он такой ревностный священник был, он всех обличал: кто невенчанный, кто без креста, строго следил, чтобы все по закону, как нужно. И всем священникам дали по восемь лет, а ему — десять, и так он и не вернулся, и отец Иероним, который меня одевал в послушание, тоже не вернулся, и отец Емельян Малышевский. И пропали они где-то без вести.
В 1937 году я приняла иночество от иеромонаха Антония из Толшевского монастыря. Он тайно служил по домам. Он многих постригал в монашество. Он и матушку Мариониллу постриг в схиму. Отец Антоний до войны часто у нас бывал. Один раз кто-то заказал сорокоуст по усопшему, так он у нас в доме целый месяц ежедневно служил. Мы с матушкой Иегудиилой сначала снимали комнатку, а потом нам пожертвовали сруб, и мы сами построили домик, и он там служил. А когда война к нам пришла, в 1942 году он еще с тремя монахами в Углянке выкопал землянку в сарае, и там устроили церковь, и престол там был, — тайный монастырь.
Монахиня Сергия: Тюрьма
Ходила, молилась я и не замечала сначала давления власти. Но власть за нами следила, мы были для нее враги. И, конечно, владыка Андрей был для нее враг, «черным князем» они его называли. Когда его арестовали, сколько клеветы на него было… А он о себе говорил: «Я только был в пеленках князь и больше я князем не был». Он с юности пошел по духовной линии, какой уж здесь князь, он все испытал в жизни… Только год прослужил у нас и епископ Вениамин, в 1929 году его арестовали. В то время сроки давали небольшие — 3 года, как правило. И мы опять остались одни. В 1930 году и меня арестовали тоже. Пришли ночью, сделали обыск и повели меня пешком через город. Темно, двое конвоиров ведут посередине улицы, и неизвестно куда. А я, знаете, ведь совсем молодая тогда была. Но страха не было, я чувствовала, что Господь рядом…
Довели до тюрьмы, я перекрестилась и переступила порог. Камера была переполнена. На нарах лежали люди, и под нарами, и на полу. Не знаю, куда стать. Вдруг, слышу, кто-то зовет меня: «Рипсимия!» Я с трудом пробралась туда. Это была знакомая верующая. Устроилась возле нее на полу. Пол был грязный, ночью все время ходили, наступали на меня. Было так душно, что у меня там вскоре начались сердечные приступы. Дышать нечем, подойду к двери, у глазка подышу немного. Лето, жара. Выводили на прогулку на несколько минут. Рядом с камерой стоял смертный ящик. Если кто умирал, складывали туда, пока не наполнится.
Много рядом людей страдало. И так мне было жалко их, так хотелось помочь им всем. Готова была все их сроки себе взять, только бы их отпустили! Три месяца была под следствием.
Говорил мне следователь: «Напрасно вы губите свою молодость, зачем вы слушаете так своих священников?» А я всегда знала твердо: раз мои отцы по этой тропиночке пошли, значит, и я за ними должна идти.
Дали мне ссылку — город Самарканд, 3 года. На пути в Самарканд в Самарском изоляторе была — страшный изолятор был… Такая, знаете, тюрьма старинная. На десять минут выпускают подышать воздухом и снова камеру запирают. В общем, испытала я тогда эту тюрьму, до конца узнала, что такое тюрьма.
Через шесть месяцев попала в Ташкент. В ташкентской тюрьме было лучше. Там двери открывали, мы на воздухе сидели. И ручеек рядом протекал, нам свободней было. Из Ташкента взяли тех, которые были назначены в Самарканд, меня и еще одного мужчину. Вместе с нами в Каттакурган везли целый вагон бандитов. И когда ехали через Самарканд, нас никто не встретил, чтобы нас принять, и нас дальше в Каттакурган повезли. Это далеко, Каттакурган. И такой, знаете, там был песок, как снег, до колена почти проваливалась нога. Этих бандюшек всех в тюрьму посадили, мужчину, моего попутчика, туда же поместили. А женщина только я была одна, а там женских камер не было. Ну и что, куда меня деть-то?
И вот там, в тюрьме, была такая временная лачужка. Там сидела одна женщина, анашу она продавала, за это ее и посадили. Меня туда и поместили. Принесут грамм четыреста-пятьсот хлеба и немного воды — и все, я ведь не числилась в тюрьме, я для них была чужая. И еще такая же была камерка, мужчины там сидели, узбеки, «Узбекистан» называлась. Они этой женщине давали еду. Им жены принесут передачу, они ей отделят, а она мне: «Давай садись. Пока я жива, так ничего, не умрешь». Месяца два, наверное, я пробыла там. Надо было обратно вернуться в Самарканд, но у меня денег своих не было. Тут мужчина один как раз ехал, тот, который был в Самарканд назначен, и он за меня заплатил. И нас двоих отвезли в Самарканд. Там освободили из-под ареста. Выпустили и, куда хочешь, иди. Город незнакомый, денег ни копейки нет. И не знаю, куда идти. И вот там к одной женщине старушечка ходила. И эта женщина мне говорит: «Ну, не печалься. Я вам дам адрес этой старушечки, Марьи Ивановны, и вы пойдете к ней». И что же, дала она мне адрес, и мы пошли к этой старушечке. С этим дядечкой пошли, ему тоже негде было остановиться.
В старом городе она жила. Там такие, знаете, внутри были домики маленькие, а вокруг глиняные заборы выше роста человека с маленькой калиточкой. Пришли мы к этой старушечке. Она с мальчиком жила. Мы ей рассказали, — так и так, — и она: «Ну, что же, что же, пожалуйста». Нас приняла так радушно. У ней было две комнатки. Она комнатку одну этому Александру Ивановичу отдала, а я с ней осталась. Одела меня, а мы, что ж, из тюрьмы были, с этапа тем более, грязные. Через два дня Александр Иванович устроился на работу, — мастер какой-то он был, — и комнатку ему дали.
А я на работу устроиться не могу, не принимают меня на швейной фабрике, потому что я за агитацию сослана. У меня политическая статья была — 58-10 и 58-11. 10-я значит — агитация против власти, а если уж 10-11 — это групповая агитация.
Тогда карточная система была, нужно было устроиться на работу, чтобы получить карточки, и я уже в уныние начала впадать — не берут меня на работу. Знаете, мне двадцать шесть лет было, и я одна в чужом городе оказалась. Трудно было мне тогда еще. Но я думала: «Господь не оставит меня в этом положении, это мне только испытание». И не оставил Господь — приняли на фабрику все-таки. Приняли, а все равно, знаете, следили все время. Как только выйду подышать в перерыв, а жара такая, каменные стены раскаленные, и я просто задыхалась, совершенно задыхалась. У меня всегда здоровье слабое было, потом стали признавать расширение сердца. Я ни к кому не подхожу, а около меня тот, другой, третий — следят. Одна рабочая мне потом сказала: «Знаешь, о чем меня спрашивали? Вокруг нее всегда народ. О чем она говорит?»
Так и работала. Если какой непорядок на работе — все относили на мой счет. Раз в месяц ходила в НКВД отмечаться, как ссыльная. Вот прихожу, а меня вызывают во внутреннюю комнату. Там следователь мне и говорит: «Вы будете нам доносить, что на работе у Вас делается». Я отказалась, конечно. Он встал, говорит: «Пошли». Повел меня вниз, в подвал, где камеры с людьми. Открыл ключом дверь в камеру, внутри пусто было. Сказал: «Иди домой и подумай». Ну, что же, я целый месяц переживала, все собиралась опять в тюрьму. И хозяйке уже сказала, и домой написала. Но Господь сохранил, тогда, видно, не время было мне попасть в тюрьму. Когда снова пришла на отметку, больше ничего не предлагали. Так прошло три года…
Вера Торгашева: Коллективизация

Когда пришла советская власть, и началась коллективизация, родители не вступили в колхоз, который назывался «Безбожник», и тогда огород нам обрезали по самое крыльцо. Когда родителей раскулачили, мне было около пяти лет — мы с детства были гонимы. Отца в тюрьму посадили, а дом, скотина и все добро досталось колхозу. Потом нас с мамой вывели из дома, разрешив взять смену белья и кое-какие подстилки, так как мама была беременной, в ссылке она и родит сестренку. Нас посадили на подводу и повезли за Волгу, где собирали раскулаченных и за тридцать километров доставили в Царицын. Там на станции высылаемых кулаков посадили в телячьи вагоны, на целый эшелон набрали, и повезли нас на ссылку в Казахстан. Мать моя нисколько не расстраивалась и не плакала, ничего не жалела, что отобрали, ей родители говорили, что все пойдет ради Христа. Они ведь читали пророческие книги, Библию и знали , что придет такое время, выгонят из домов и отберут все. Но Господь укрепит и в будущей жизни воздастся сторицей. И мама была тверда в вере до последнего дня. Всю жизнь терпела и благодарила Господа за Его великую милость. И Господь нам давал во всем изобилие. Никогда мы не роптали на судьбу, все переносили с радостью, день прошел и слава Богу. Всегда молились и ни на кого не обижались. Сам Господь терпел за наши грехи, а мы за свои должны пострадать….
Игумения Ксения: Колхозы
Отец мой не хотел идти в колхоз, тогда его назначили уполномоченным в комиссию по раскулачиванию, но он сказал: «Что хотите, делайте, я на это не пойду». Тогда его арестовали и посадили, а когда выпустили, опять назначили в комиссию. Он отказался, и его опять посадил, а когда выпустили, он вернулся домой, но был совсем больной и умер в 1932 году. Семья страшно бедствовала, и помогали выживать родные из города, привозили караваи — прямо с колесо. Летом травы приносили, щавеля, еще какой травы — суп варили. Лебеду сушили и толкли семечко. Оно, как манка. Мама жарила в печке, в ступке толкла и кашу варила. И как вкусно! Маму все время таскали в сельсовет, требовали, чтоб она вступила в колхоз. А она отказывалась. Ее опять вызывали и подолгу держали, говорили, что дурной пример подает, что из-за нее многие не вступают. Как-то она вернулась, и печь не успела растопить. А мы, дети, замерзли, голодные сидим, плачем. А ее опять вызывают — из области приехал кто-то и стал спрашивать ее:
— Почему в колхоз не вступаете?
— Антихриста боюсь.
— А какой антихрист, с хвостом, с рогами?
— Вот как Вы говорите, такой он и есть.
— Знаешь, моя хорошая, ты пожалей своих детей. Если ты не пойдешь в колхоз, мы тебя посадим в тюрьму или вот в прорубь опустим, ледяной столб из тебя сделаем.
— Что хотите, делайте, но в колхоз я не пойду, как хотите.
Потом он говорит: «Один исход: отправляйся из этой деревни. Глядя на тебя, никто в колхоз не идет». И действительно на собрание соберутся, а все смотрят на маму, как она. Председатель говорит: «Поднимете руки, кто против советской власти?» А мама ему: «Почему вы такой вопрос задаете, речь ведь не об этом идет». Председатель: «Чего вы боитесь идти в колхоз? Мы будем от каждого по возможности, а брать будем по потребности». Вот и давали по потребности — палочку! Как малых детей обдуривали. Они: «Мы будем у руля правления!» А мама спрашивает: «А кто землю будет обрабатывать, если все будут у руля правления?» Еще твердили: «Все будет общее! Нам, что надо будет, будем брать». Вот и «брали», — работаешь, работаешь, а тебе палочку поставят! Картошку с огорода — вот столько-то им отдай, с овечки шерсти — отдай, с курочки яичек — отдай, с коровушки молока и масла — отдай. Это что, по возможности? Колхозники стали песни складывать: «Когда был царь Николаша, на столе была каша, а как встал Ленин, на столе появился сопливый мерин».
Лошади умирали, за ними ведь плохо ухаживали. Колхозники голодные, за мясом прямо в драку. Сколько скота умерло, когда скотину отбирали в колхоз. Пришли к нам во двор. Ворота только открыли, корова заревела, лошадь закричала, овечки заблеяли, — и слезы у них. Мы вышли, плачем, а они все не идут со двора. Их бьют, а мама говорит: «Вы чего их бьете? Они что, виноваты?» Мы подойдем к коровке, гладим, а она нас лижет, и слезы у нее. И у лошадки слезы крупные такие, — всё понимали. А угнали их туда, а там ни корма, ничего не было, — они и умерли с голода. А мясо умерших драли, и коров, и лошадей. Принесут домой, да едят, даже кожу их сдирали — опаливали ее, варили и ели…
Отобрали у нас все, да еще издевались… Председатель специально посылал таких людей к тем, кто не вступал в колхоз. Мама блины печет, мы на улице играем с сестренкой, а как увидим, что эти по домам идут проверять, мы сразу к маме: «Мама, мама, власть идет!» Она мигом квашню в огороде в крапиву поставит, блины спрячет. Они ведь поесть не давали, если найдут, все с навозом перемешают. Так к одним пришли, все тесто прямо на дорогу вывалили и с землей перемешали. У нас даже то, что приносили нам из города, все равно отнимали. Как-то пришли, а мы, детишки, спали на дорожках. Это все, что у нас осталось, на них солому настелили, и на этих дорожках мы спали. Так они нас с этих дорожек как подкинут, извините за выражение, «как г… с лопаты», — так озорничали… Племянница Тайка совсем маленькая была, как заорала от испуга и долго орала, не переставая! Мы думали, она умом тронулась, и с тех пор она такая нервная на всю жизнь и осталась.
Нервотрепка постоянная. Папу посадили, маму по правлениям гоняли, мы плакали, просили Бога, чтобы Он нам ее сохранил.
Любовь: Собрания ночью
Папаша сказал, что в колхоз не пойдет, пусть убивают. Все у нас отобрали, хлеб и юбку какую отберут и соседке за рубль продадут. Мы испечем хлеб, соседи придут и кричат, что хлеб купят, а хлеб этот есть-то не могут — там зерна почти не было. Жизнь была очень трудная, тогда все говорили, что антихрист уже пришел, какие-то сны рассказывали. Но большинство народа оставалось в деревне, единицы уезжали в город, хотя там, может, и легче было.
Тогда верующие собирались и много молились, беседы тоже были, но реже. Собирались ночью по разным домам, чаще у двоюродного брата Федора — у него большая изба была. Родителей его забрали, и мы к ним ходили молиться.
Брат мой Михаил, двадцати шести лет, молодой, красивый, проповедником был, его в тридцать седьмом году забрали. Книги прятали на кухне, была сделана там лазейка в маленький погребок, там и Василий прятался. Никто не отступался, все держались, все ждали царствия Божьего на земле… В деревне Порой, за двенадцать километров от Куймани, была у нас знакомая молитвеница, Надежда Павловна. Мужа у нее, Ивана Степановича, раньше забрали, хозяйство разорили, даже крышу дома снесли, а детей у нее четверо было. Мы с Мавриным Иваном для нее ходили за дровами, одежду из простыни сошьем, чтоб на снегу можно спрятаться — нам ведь не давали собирать дрова в лесу. По целине ползем, столбышки от подсолнуха рвем и собираем в вязанку — ведь если увидят, отберут и изобьют. Однажды с Иваном пошли за дровами, а тут председатель колхоза: «Зачем идете». И давай бить нас по головам «за пропаганду».
Акилина Меньшова: Дети
Однажды пришли к нам из актива и говорят: «Вы можете получать пособие на детей, но чтобы дети ходили в школу». Мать сказала: «Детей в школу не пущу, потому что там учат против Бога. А мы за Бога, и за пособие души детей своих я продавать не буду». Почти каждую ночь мать забирали в сельсовет, и после этих бесед мать приходила избитая и окровавленная. Мы сидели, ждали ее и боялись, то ли живая придет, то ли вообще не придет. Тогда многих убивали за веру на допросах… Несмотря на запрет властей, огород мы все-таки посадили, но когда пришло время собирать урожай, пришли колхозники, собрали весь урожай с нашего огорода и увезли. Так как в нашем доме ничего не было из еды, то мы однажды пошли собирать на поле колоски, ибо питались только колосками, которые собирали с большим риском. Мать нам сказала: «Ну ладно, дети, идите, а я пока сварю вам кутью, придете и покушаете». <…>
Примерно через неделю получила письмо из дома, в нем сообщалось, что мать арестовали – надели ей наручники, посадили в машину «черный ворон» и увезли. И еще сказали, что ее расстреляли. После этого письма я рыдала навзрыд, соседка слышала, как я плакала. Пришла хозяйка с работы и соседка ей рассказала. Хозяйка меня спросила: «Чего ты сегодня так сильно плакала?» я ей ответила: «Я не плакала, почему это я должна плакать. Плакала Муза (их дочка), она капризничала, не хотела спать ложиться». Сколько она меня не допытывала, но я упорно ей ничего не сказала, потому что перед этим я услышала по радио сообщение, что Бухарина, Рыкова и Ягоду расстреляли и их семьи, поэтому я боялась, что и меня возьмут. На другой день хозяйка пошла на работу и позвонила в село и ей передали, что мать моя против советской власти, поэтому ее арестовали, увезли и расстреляли. Хозяйка, бросив работу, прибежала домой, сняла с меня вещи (оставив водной рубашке нижней) и сказала: «Если бы я знала, что ты от таких родителей, то я тебя не пустила бы и за сто километров». Так я пошла без чулок, без платка; сверху было накинуто легкое пальто. Была уже зима, сильная вьюга на улице, шла по городу и плакала. Придя в свое село домой, увидела, что маленький брат сидел один в холодной хате, а старшего посадили за веру в Бога. Я пошла набрала бурьяна, натопила печку. Из остатков муки сварила похлебку и мы с братом поели, обогрелись…
Наталия Гончарова: Пионеры
В 1929 году началась коллективизация, и родителей принуждали записаться в колхоз. В колхоз вступать «грех», так как наша семья относилась к истинно-православным христианам. Отец категорически отказался. У нас забрали весь скот, тряпки, посуду, продукты, вытащили вторые рамы окон, оставили нас голодными и холодными. В 1933 году была засуха, наступил страшный голод. Отец, бабушка и один ребенок умерли. Маму обижали, кто и как мог: и власть, и люди, потому что не колхозники. Старший брат не выдержал и уехал, остались нас трое и мама. Голод заставил нас побираться. У мамы оставалась одна старая шуба, и ту власти сорвали с плеч за налог, а налоги были непосильные.
Наступила зима, топиться было нечем, стены и окна покрылись снегом. Мы малы, а маме было не под силу добыть дров. Но в школу мы ходили. Хотя были голодные и холодные, и одежда на двоих с братом, но учились хорошо. В школе тоже испытание: родителей в колхоз гнали, а нас — в пионеры. Мы отказывались, боялись греха. А еще я увидела, что галстук похож на кровь. Крепился он зажимом, а на зажиме вверху написано: «Будь готов», в середине костер, а внизу — «Всегда готов» в этот костер. Меня это сильно напугало. До семи лет я ходила в сельскую школу, в 1939 году уехала к сестре в Калинин, где проучилась еще один год, хотя совсем неудачно.
Вера Сазонова: Арест священника
Церковь была в трех километрах от нашей деревни, в селе Волгово. Меня там крестил иеромонах Иона. Он был «иосифлянин», недолго прослужил, вскоре заболел и умер в Питере. Похоронен на Серафимовском кладбище. Я ухаживаю за его могилкой. Потом прислали к нам отца Георгия, вероятно, в двадцать девятом или весной тридцатого года, моего младшего брата в тридцатом уже он крестил, и служил он до тридцать пятого года. <…>
Все его очень любили и почитали. Купят ему сапоги, а он поедет в Питер — возвращается босой. «Ну, батюшка опять кого-то приобул». Опять ему купят… А был такой случай, крестная рассказывала. Шел отец Георгий по заригам (за огородами), повернул к моей крестной, а там матушка Мария картошку копает. У нее спина очень болела, — вот она все ёжилась. Батюшка подходит потихоньку и как оттянет ее своей тросточкой. Она как закричит! А он: «Что ты ёжишься, давай копай»! Она выпрямилась, и боль прошла! И все — спина перестала болеть… Когда отец Георгий к нам только прибыл, увидел — деревушка маленькая. «Я тут не просуществую». А дядя Александр Ильич, папин брат говорит ему: «Батюшка, да я один Вас прокормлю, только оставайтесь ради Бога». Дядя был старостой в церкви, помню, всегда, когда причащались, он стоял в церкви и плат держал у Чаши. Любила я его…
Он был постарше папы, их одиннадцать детей в семье было, братьев и сестер Харламовых, а еще и двоюродные. И папа в семье был младшим, а самый старший — дядя Вася. Помню, каждый вечер к нам приходил, и мы играли: кучу спичек высыпает на стол, и нужно осторожненько вынимать, если пошевелятся, то щелчки по лбу получали. Однажды дядя Александр нагрузил воз сена и хотел везти в другую деревню к своей сестре, а отец Георгий остановил его: «Саня, ты куда?» Тот: «Повезу сено Володе (мужу сестры)». — А у Федора сена хватит корове? — Да они любят на широкую ногу. «Вот поворачивай лошадь и вези к Федору. У него шесть человек детей. А у Володи одна дочь». Убедил. Отвез дядя сено к Федору и сгрузил.
В тридцать пятом году арестовали дядю Александра вместе с отцом Георгием прямо в церкви. Забирали их с отцом Георгием прямо во время службы. И всех, кто был в церкви, тоже, и даже тех, кто шел еще на службу, прямо на дороге хватали.
Отцу Георгию дали восемь лет, помню, как пришла крестная, рассказывала, а все плакали. Когда его вели, он их увидел и показал пальцем вверх. Они поняли и в бане, где он прежде жил, под крышей в соломе нашли пачку писем, говорили потом, что там было много писем от митрополита Иосифа. Отец Георгий его знал и переписывался с ним через доверенных людей. Конечно, они побоялись это хранить, и все сожгли, кроме одного письма, его потом переписывали.
Матрена Чеснокова: Молитвы без священника
В нашей деревне было строго, днем никогда не собирались, молились только по ночам, старались прийти на молитву в темноте и уйти затемно. Когда наш христианин приходил, в окно стучал три раза, а мы спрашивали: «Кто?» Тот называл село, откуда он, тогда ему открывали. Часто собирались в нашем доме, приходило человек по тридцать. Мы вначале помолимся, молитву каждый читал, я читала вслух, остальные про себя, три акафиста за раз. Кто-то из братьев выбирал место из «Нового завета», читал, и проповедь толковалась, потом все вставали и пели духовные стихи.
Братья Чесноковы, Василий и Дмитрий, на священство смотрели отрицательно, но мнение их по этому вопросу было разное.
Они говорили нам о последних временах и предупреждали: «Кто хочет молиться — на крест пойдет. Господь страдал и нам велел». Но маленько ошиблись они, думали, что как в тюрьму нас возьмут, Господь нас к себе из тюрьмы и возьмет. А мы вон сколько живем…
При Чесноковых общее покаяние проходило редко, сначала читали «Покаянный канон», потом молились, потом каждый подходил к иконе и, стоя, вслух каялся, затем три раза поклон пред иконой, а все слушали (при каких-то грехах большое смущение было у молящихся, не все можно вслух говорить, да при детях). Но это редко было. По окончании службы расходились по-тихому, кто далеко жил, оставались ночевать у нас. Ребятишки всегда были понятливые, стояли на страже верно, лишнего ничего не болтали. <…>
После ареста братьев Чесноковых мы все равно продолжали ходить по селам и молиться, но с Федором Ивановичем ходили уже реже. Между собой мы называли себя христианами, а потом из лагеря дядя мой пришел и сказал, что именоваться надо истинно-православными христианами. За нами следили постоянно, так что мы ни к кому не ходили, никакой возможности не было, да и бесед уже не было. Мы знали, что нас посадят, власти ведь запрещали слово Божье говорить, а мы говорили и по селам ходили. По ночам ставили патрули, и тяжело было пройти из села в село, так мы ползком пробирались по огородам.
Александра Халчевская: Обыск
Батька мой вместе с отцом своим Евгением скрывался до тридцать шестого года у брата в Ефремовке Ростовской области. Дядька мой делал кадушки, отец ему помогал, тем они жили. И в скитаниях своих отец познакомился с одним священником, который отказался в церкви служить. И батюшку, Константином его звали, пустила к себе жить старушка. У них маленькая хатенка была, и жил там батюшка с матушкой. Как-то повел меня отец с дядькой к батюшке за восемнадцать километров, а было мне уже одиннадцать лет. Пока дошли туда, я так устала, что уже ничего не понимала. Батюшка Константин служил прямо в этой хатенке. Взял он меня на руки и носил вокруг столика, там же меня он миропомазал и сказал: «Теперь ты по-настоящему крещеная».
А в тридцать шестом году, за две недели до Михайлова дня, арестовали батюшку Константина. Осудили его и отправили в лагерь. А в ноябре, накануне Михайлова дня, появился вдруг у нас батька. Вернулся домой, решив, что уже столько лет прошло. А они сразу узнали. Утром отец встал, помолился, псалтырь почитал и не успел надеть сапоги, как во двор въехал «активист» колхозный. Соскочил и с налету в хату: «Давай в правление, там тебя ждут». А куда отцу деваться?
Батька помолился Богу, попрощался с нами, вышел из хаты. А трехлетняя сестренка дала ему пышечки, которые ей мама дала, со словами: «На, папа. Возьми на дорогу». Папа нам лишь сказал: «Простите. Я уже не вернусь».
Я сразу же схватила папины книжки, бросила их в яму для картошки в кладовке и чем-то забросала. А тут милиционер прибежал, заскочил в хату: «Здравствуйте, хозяин дома? Где хозяин?» А мы ему: «Уже увезли». Он тогда: «Я буду делать у вас обыск. Где ваши церковные книги?» Мы: «Нет у нас никаких книжек». Я крестилась и молилась, а он все в хате перекидал, но в кладовку не пошел. Господь хранил нас. А батьку в каземат посадили, а ночью на Кущевку отвезли, за пятьдесят километров. Три месяца его допрашивали, потом велели нам принести смену белья и продукты…
Монахиня Сергия: Лагерь
В 1937 году снова начались аресты. Забирали всех подряд, не только там иеромонахов или верующих забирали, а всяких, каких попало. О, какие были жуткие аресты! Владыку Вениамина сначала арестовали. Сколько уж прошло времени, не знаю, нас арестовали: меня, его брата иерея Михаила Троицкого, монахиню Филарету, у которой владыка жил, старушечку Наталью Павловну, из Уфы она была, уважала очень владыку, за ним ездила. А вот была со мной одна инокиня, жили в одной комнате, она осталась, а меня арестовали.
Судили в Ульяновске. В первом полугодии 1937 года давали по 5 лет всем, а во втором полугодии, а меня в декабре судили, уже по 10 лет. В тюрьме били сильно, через стенку слышно было, как били, и как кричали люди.
Как-то после допроса встретила в коридоре отца Михаила, брата владыки. Он был весь избит, черный, глаза заплыли: «Рипсимиюшка, ты же знаешь, я ни в чем не виноват».
Потом его этапом отправили в Архангельск, и он умер в дороге. С ним была матушка Филарета. И старушка наша не выдержала, умерла на пересылке в Сызраньской тюрьме. После суда погнали и меня на этап. Я еле шла, — сил нет, а чуть отстанешь, собаки хватают за ноги. Потом привезли куда-то.
Тайга. Свердловская область, Серовский район, станция Сосьва. Дальше не было пути, поезда не ходили, была сплошная тайга. И вот сюда всех на лесоповал присылали. Лагерь большой был, рядом село, где жило начальство Севураллага. В лагере наш этап был первым, за кем привозили еще людей. Заставляли нас пни корчевать — это для всех была непосильная работа, потому что от недоедания ни у кого сил не было. Меня поставили сучки обрубать, а я ведь и топор никогда в руках не держала. Рублю-рублю, а сучья все на месте. Руку себе чуть не отрубила тогда. После этого меня отправили в столовую посуду мыть. Видела, как люди страдают, бедненькие: супчик с крупочкой какой-нибудь дадут им, так они выпьют этот супчик весь, а потом каждую крупиночку собирают в рот. Я уж там про себя-то забывала — мне людей было очень жалко.
Поджила рука, отправили меня на скатку бревен. Там со мной уже сердечный приступ случился. Работала, и вдруг ноги подкосились, дышать стало нечем. Прислонили меня к дереву, а вечером принесли на носилках в барак. А там сразу в лазарет. Я долго болела. Помню, один раз сердце отказало совсем: все слышу, а глаза открыть не могу, и дыхания почти нет. Слышу, говорят рядом: «Умерла». Но Господь сохранил и в этот раз. Потом четыре с половиной года я медсестрой работала, я знакома была немного с медициной. И косить-то нас посылали, а я и косу-то не умела держать. Так там умеешь – не умеешь, давай, работай.
Конечная моя, что ли, остановка: после лечения по наряду меня взяли в швейный цех, — нашли, что я портниха. К тому времени я уже инвалидность в лагере получила, и на общие работы меня не посылали. Работала в цехе закройщицей, денег не давали, конечно, нисколько, но за кусок хлеба ценилась наша работа. Вот здесь я и кончила весь срок. В сорок седьмом году в декабре месяце освободилась. Ехали обратно долго, восемь суток, я, помню, до того изнемогла, что больше не могла уже. На вокзале легла около стенки, вытянулась, так и уснула — все на свете забыла. Часа два-три, наверное, я спала, на вокзале, на полу у двери. А там был какой-то старичок, священник, тоже ехал с нами, потом был еще дядечка из другого лагпункта, бухгалтер. Я когда проснулась, они говорят: «А мы вас караулили. Как вы спали хорошо…»
Александра Окунева: Молитва в лагере
Когда коллективизация началась, двенадцать дворов на раскулачивание записали. Сразу же увезли ночью на черном вороне нескольких мужиков, наших певчих, потом в двенадцать часов ночи увозили и остальных мужиков. А папу нашего взяли, на следствии его и еще двух священников заставляли отречься. Один священник отрекся, его заставили даже поплясать, и он начал служить по-новому. Папа не отрекся, это было перед Пасхой. Его отпустили, он пришел домой, упал на колени: «Ну, детки, пойдем в последний раз послужим, а потом меня заберут!» Ему дали бумагу, в которой было указано, как служить: это читать, это не читать… Вскоре его отвезли в тюрьму, а потом нам пришло известие, что отца можно забрать. Привезли его на тележке в избушечку, в которой мы тогда жили. После он все время болел, лежал, не вставал и вскоре умер. <…>
Стали обыск делать, мне сказали: «Бери, что тебе надо. Сухари бери, одеяло бери». Взяла я сухари, картошку обтерла и вымыла, лепешки постряпала и посушила их маленько — все приготовила. А они вывалили все на стол, спрашивают: «А это что такое?» Я: «Сухари». Они удивились: «Что за сухари?» Я: «Из травы они и картошки тертой гнилой». Увидел он, что я испугалась, сам стал искать в сундуке белье мне, нашел одеялку тканую и пару белья. Повели меня в сельсовет на допрос, а дочка маленькая, ее напугали при обыске, она бежала по деревне за мной, кричала и плакала. Там допрашивать стали, спрашивали: «Где молилась? Куда ходила? Где крестилась? Как долго молилась?» Так до самого утра пытали. В одиннадцатом часу вечера забрали и вот до самого утра… Так арестовали меня, а дочку отобрали и в детдом сдали. <…>
Потом машину подогнали и повезли нас, двенадцать человек, в Чистополь. Там при обыске крест у меня на груди увидели и потребовали: «Давай крест снимай». Я: «Крест не сниму. Зачем я буду крест с себя снимать? Я за это и иду страдать». Потом машину подогнали и нас повезли. Прежде в Казань привезли на допрос, при обыске там у меня крест увидели: «Давай крест снимай». Я говорю: «Крест не сниму. Зачем я буду крест с себя снимать? Я за это иду только». Перекрестилась: «Во имя Отца и Сына и Святого духа. Вы что хотите, чтоб я без креста была? Я крест не скину». И в камере сразу крест зашила в фуфайку. Потом меня позвали: «Айда хлеб получать». Получать хлеб пошли, а я опять не расписываюсь, говорю: «Расписываться я не буду. Господь у меня росписи не берет. Никакой росписи я не хочу, чтобы вот расписываться за хлеб». — «Ну, тогда мы хлеба тебе не дадим». Но потом все-таки дали и, сколько мне дали хлеба, я услала домой. Меня спросили: «А зачем ты усылаешь?». Я говорю: «Они голодные там у меня совсем».
Потом привезли нас в Чистополь, нас двенадцать человек было. Они-то все вместе, а меня все одну закрывали. Всех вместе, а я одна. А там вшей полно, никакого покоя не было, кусают и кусают. Потом в баню меня повели, а потом по одиночкам стали всех раскидывать, кого куда. Потом меня опять закрыли одну, в какой-то ящик, собачий ящик.
Потом на допросы стали вызывать, надевали на руки наручники и те же вопросы задавали: «Где молились? Где были и куда ездили?» Потом осудили меня на десять лет и в Сибирь увезли.
В лагере сразу сказала: «Я на работу не пойду. У меня девчонка и мама больные остались». На меня наручники надели и на «комарье» поставили. Им, комарам, воля, они кусают, а отмахнуться ведь нельзя. Кровь льется, все лицо мое распухло, я уже забывалась. Потом упала и запела молитву «Матери Божией». Подошли ко мне охранники и рабочие, больно охота им послушать. А я пела молитву и пока пела, они ключ от наручников искали, они его потеряли. А у меня уже наручники в руки впились. Еле-еле нашли они ключ, открыли их. Отработали рабочие смену, стали расходиться, меня и отпустили тогда.
А потом зачитали мне: «Пять суток карцера». А в карцере-то спальные доски поднимаются и закрываются на замок, чтоб не лежала и не сидела, там только стоять можно было. Так все время и стояла, а пол-то цементный. Ничего не давали, ни одежды, ни валенок, все скидывали с меня, чтоб нельзя было согреться. Потом вернули в барак, утром встала я, а меня назначили на работу. И опять я сказала: «На работу не пойду. Я не работать пришла сюда, а ради Господа. Если вы меня сюда насильно привезли, так зачем мне работать». И опять в карцер, а из карцера в БУР. А там только трещинки в окошке светятся, заколочены окошки. Всего лишили там: и хлеба, и воды, и тепла.
Мы в бараке только молились, просили Господа, чтоб нас не оставил. Целый день «на комарах» стояли, а потом в барак на молитву шли. Я на поверку тоже не ходила, за это опять мучение было — или наручники надевали и на «комарье», но чаще в карцер сажали. Так что в лагере я все больше в карцере сидела. Хлеба нам давали всего по триста грамм, да и хлеб-то сырой да серый. Но перед кануном Пасхи старались есть пайку хлеба понемногу, все-таки откладывали хлеб. Все думали: «На Пасху досыта поедим». А начальник пришел, приказал «шмон» сделать, и все у нас отобрали да в каптерку бросили. Вот и поели мы…
В лагере я отсидела пять лет, потом пять лет в ссылке в деревне Шугуры Альметьевского района. Потом домой пришла, и вскоре меня опять в ссылку в Сибирь отправили. Так и получилось, что я десять лет отсидела в ссылке.
40-е годы

Александра Самарина: Война
А война началась, отца забрали в армию и брата. Отец говорит: «Я не пойду воевать за безбожников». Он для фронта негодный был, инвалид, а работать на трудовом отказался. Брата Ивана взяли, а он еще несовершеннолетний, сказал: «Не пойду!». Их обоих по пятьдесят восьмой осудили. Во время войны мы продолжали молиться, ничего не боялись. Уже были эвакуированы все заводы. А нам сказали, молитесь, в Липецке немцев не будет. Наши войска отступали, отступали, мы так и остались там, продолжали молиться, и посторонние не знали об этом. А ведь в сельской местности даже за отпевание и чтение молитв могли посадить и «Псалтырь» забрать. Вот какая страшная жизнь была!
Анна Чеснокова: Прощение гонителя
В деревне одни старушки да молодежь зеленая осталась, взрослых мужчин не было ни одного. Старух мы на носилках таскали, а были еще сами такие слабые. После обыска все книги у нас взяли, все псалмы, не по чему стало молиться нам. Читали лишь покаяние и акафист намного реже. Наш брат двоюродный Дмитрий успел схорониться, и домой только ночью приходил. Он начитанный был, с понятием, говорил мне: «Аннушка, возьмут тебя, тебе придется работать. Ты такая видная. Тебе придется выдержать этот крест, и Бог знает, какой». Как придет братишка ночью домой, так меня на следующий день и брали. Поводят-поводят по улицам до сельсовета, потом отпустят. В мае сорок первого года на пятый раз и меня взяли, вместе с братом малым Николаем. <…>
В тюрьме мы на коленях молились, читали мы не про себя, а вслух. А я ростом-то дылда большая, самая рослая была, охранникам в волчок и видно, что я читаю. Меня и наказывали за это чаще других. Но всякий день, и утром, и вечером, и в праздники мы молились в камере, читали, кто что знал.
Когда вышла я на волю, тут еще страшнее стало. Всех наших на ссылку погнали, в селе негде стало жить. Пришлось мне сначала у знакомой, Надежды Андреевны, жить. А когда пришла я домой, моего гонителя сразу предупредили, что я появилась. Он как взял меня за руку и не отпускал: «Простишь меня или нет?» А я ему: «Не только прощу, а молюсь Богу за тебя день и ночь. Вы довели нас совсем: еду у нас отбирали, мы на ходу падали от голода. А сейчас, слава Богу, я выгляжу как человек». Брат мой Николай рассказывал потом, как сослали их без одежды, как ходили они километров за двадцать босиком и побирались. Так что арест для меня благом стал, я бы здесь с голоду померла. И гонитель мой, как встретит меня, так всякий раз и спрашивал: «Простила ли ты меня, Анна Федоровна?»
Вера Сазонова: При немцах
После отца Георгия церковь закрыли. И все… Ни вере, ни молитвам никто нас не учил, только перед едой крестились. Папа читал «Отче наш», но мы никто не умели… Потом, когда пришли немцы, кто-то пустил слух, что паспорт дадут только тому, кто выучит «Отче наш». Тут сразу все забегали…
Иеромонах Тихон, в миру Василий Никандрович Зорин. Где родился и еще чего о нем, не знаю, знаю только, что его к нам в войну привезли, и с тех пор до самой его смерти в семьдесят шестом году мы были с ним. Когда война началась, он скрывался в Володарке, а когда немцы пришли, то стал служить в доме Феодосии Рудневой, расстрелянной немцами позднее по подозрению в укрывательстве партизан, потом с разрешения коменданта стал служить в привокзальной часовне «Всех Скорбящих Радосте».
Сначала отец Тихон служил прямо в доме, потом немцы уступили школу. Сделали там люди ремонт, принесли иконы, отец Тихон оборудовал церковь, сделал Престол и все, что нужно. Даже чугуночку сделали, чтобы угольки готовить для кадила. Окна там были и с одной, и с другой стороны, — свету хватало. Первая служба, помню, на Вербное воскресенье была. Потом Страстная неделя, вынос плащаницы, — я как подошла, сразу залилась слезами. Господь как живой, только глазки закрыты. Я так плакала… Прошла Страстная неделя, Пасха. Хорошо!.. Только звона не было. Так прошло несколько месяцев, потом позволили храм открыть в Клопицах. Там уж настоящий храм, святых Апостолов Петра и Павла. Там и звон, и алтарь, и все… Отремонтировали и весь иконостас восстановили, верующие смогли сохранить все иконы, когда церковь закрывали, — так весь иконостас там и сделали. <…>
Был еще такой случай. Двое парнишек украли два мешка ржи. Немцы заставляли нас жать для себя, а нам оставляли только колоски подбирать. И вот парнишки лет по пятнадцать-шестнадцать взяли эти мешки… Немцы им сразу — виселица! Уже приготовили в конце деревни виселицу, чурбаки поставили, всех собрали, поблизости еще одна деревня была, так собрали с обеих деревень. Все плачут, рыдают, — и дети, и взрослые.
Тут подходит отец Тихон, бросается на колени перед немцами, руки к небу поднимает: «Побойтесь Бога! Побойтесь Бога!» За ноги их хватает, чуть ли не целует: «Побойтесь Бога!» И все! Отпустили ребят, его молитвами. А так ведь, были бы повешены…
После войны, когда отца Тихона арестовали, допрашивали свекровь старшей сестры: «Молилась с ним за немцев?» Она им: «Я за свои грехи молилась». Они: «Отец Тихон бандит». А она: «Сами вы бандиты. Он немцев на коленях молил, чтобы не вешали ребят малых, которые взяли с полей два мешка ржи».
Я же ничего не знала, как забрали отца Георгия, мы никуда больше не ходили. Была церковь в Волосове, в Кикерине, но мама не ходила, так как они были уже «красные». Пришла я там в церковь, еще подошла поближе к алтарю, на ступенечку встала. Священник вышел, Евангелие прочитал по-русски и по-эстонски, ну, увидел, что я молюсь усердно, положил мне руку на голову. Так помолилась я, исповедалась и причастилась. А когда разыскали мы отца Тихона и крестную, я им написала. Крестная мне ответила: «Верочка, я очень рада, что ты стремишься к Богу, что ты пошла в церковь. Но больше этого не делай! Ты знаешь, сейчас нет таких батюшек, как наш, не ходи, будь внимательнее». Я к маме: «Что такое?»
Она объяснила: так и так, там, где не поминают митрополита Петра и митрополита Иосифа, к таким батюшкам ходить не надо. Есть белые священники, а есть «красные», вот эти — «красные».
Монахиня Сергия: Тайный постриг
В Уфу въезд мне был запрещен, и ближе ста километров от Уфы нельзя было жить. Устроилась я с матерью и сестрой в латышском поселке в ста километрах от Уфы. Но в Уфе я бывала, знакомые монахини там жили. Через год одна монахиня приезжает ко мне и говорит: «Поедем к схиепископу Петру». Он рядом жил, недалеко, но за ним следили, и попасть к нему было трудно. Мы поехали: я, две монахини и старичок один, вез владыке святые мощи. Владыка был очень старенький — девяносто лет. Мне хотелось скорей принять мантию, а там я готова была хоть снова в тюрьму за Господа. И он постриг меня на другой день с именем Нина, потом я вернулась к сестре. В сорок восьмом году начались аресты «повторников» — забирали всех, кто уже сидел. Соседка была латышка, она сидела, и вот ее взяли. А я ждала, что теперь придут и за мной. Председатель в поселке том уже сказал как-то сестре: «Спрашивали про твою сестру». Но не угодно было это Господу, и больше в тюрьму я не попадала.
Через два года приехали матушки от владыки Петра. Он спрашивал: «Где моя овечка? Разыщите мне ее!» Вскоре мне удалось устроиться в Уфе. Там служил тайно иеромонах отец Михаил, которого посвятил владыка Петр, и мы стали ходить к нему. Моя мама приняла от отца Михаила мантию. После смерти отца Михаила нас взял к себе иеромонах Тимофей, его тоже посвятил владыка, но он был из белых священников. Ради Господа они с матушкой своей приняли монашество. За ним охотились власти, и он скрывался много лет на Кавказе. Мы уехали за отцом Тимофеем на Кавказ, и жили там шесть лет. Двух моих сестер он постриг в мантию и вскоре после этого в семьдесят пятом году умер от астмы. Ему было уже восемьдесят два года.
А мы стали искать других истинно православных священников. И нашли их.
Анна Лаврентьева: «Монашки» в лагере

Мы жили в селе Студеные Выселки, нас у матери было семь человек. Молились всей семьей с детства, в колхоз не пошли, считали «грех». Жили бедно-бедно, поэтому ничего не отобрали. В селе наставником нашим был Федор Фарафонов, родственник и первый наставник мамы. Его арестовали и расстреляли, после наставниками нашими стали Василий и Дмитрий Титовы, тоже наши родственники. У нас в селе каждый год кого-то забирали. В войну отца забрали, мобилизовали куда-то. В сорок четвертом году многих верующих забрали на ссылку, в селе почти никого не осталось, а в сорок пятом и остальных забрали. Не к кому стало ходить, и я уже никуда не ходила, не с кем стало молиться.
А 19 августа сорок пятого арестовали и меня. Когда пришли меня арестовывать, а я девчонка деревенская, маленькая и худенькая, так следователь удивился: «Неужели такую девчонку арестовывать?»
Три дня не отправляли, думали, какую статью мне дать. Дали 58-10, часть вторая, и 58-11, как всем политическим. За то, что Богу молилась и в колхоз не пошла, сказала «грех». Забрали меня, как пташку поймали в клетку. Мама моя осталась одна и шесть человек детей, но через год, в сорок шестом, и ее арестовали и осудили. Четыре месяца сидела я в Липецкой тюрьме. В камере нас было четырнадцать человек, пятерых арестовали раньше, да нас прибыло девять. Полковник Смоленский вел следствие нашей Марии.
Когда она пришла, он вытащил из шкафа папки эти и сказал: «Вот Мария Петровна, придет время, когда будут составлять жития святых. Вот по этим делам». Она ему: «Хватит вам, кто их будет беречь?» — «Нет, все у нас хранится. Смольянинова, Мария Петровна, вот так страдала за веру! Все тут будет описано».
Также и вы сейчас это составляете? Ну, ладно. Потом тех, пятерых, осудили и отправили, а нас судили вместе. Меня осудили на десять лет лагерей и пять лет лишения прав и через три дня отправили в Усмань. Мы там просидели две недели, потом направили нас в Челябинск.
В лагере под Челябинском в бараке было сто пятьдесят заключенных, но мы все равно ночью тихонечко читали акафисты, чтоб не мешать спать другим. Когда появлялся надзиратель, быстро прятали все, что у кого было.
Из Челябинска нас направили в Свердловскую область, в Ивдельлаг, а там сидели рецидивисты. Нас привезли в лагерь ночью, запустили в барак. И была для всех там «варфоломеевская ночь». В лагере было всего сорок пять женщин и семьсот мужчин-рецидивистов. Так уголовники сломали в нашем бараке дверь и ворвались к нам. Что там было!! Но нас Матерь Божия сохранила. Было темно, но им сказали, что здесь монашки. Тогда главарь их закричал: «Монашки? Раз монашки, пусть поют». И мы забились в угол, где места-то на двоих было, а нас девять, и всю ночь пели и молились.
Утром мы встали и вышли из барака, а уголовники высмотрели нас и удивились: «Мы-то думали, что они старые, а они молодые». И пригрозили, что вечером разберутся с нами. Самой старшей нашей было сорок пять лет, а остальным — по восемнадцать. Но в восемнадцать часов пришли «вохровцы» с начальником, они были уверены, что нас уже всех изнасиловали. И охрана навела «порядок» — прогнала уголовников через строй и жестоко избила их шлангами.
Из Тайшета отправили меня в Потьму, в Мордовию, но там уже не было такого гонения. В лагерях мы молились всегда общей молитвой, нас здесь девять человек было. Александра Федоровна вставала в три часа и молилась всю ночь: и полуношницу справляли, и утренюю, и среди дня (в первый и во второй лагерный срок). Сидели мы в отдельном бараке, нас шестьдесят человек было. И все молились, но каждый в своей кучке молился, по местностям: липецкие со своими, смоленские со своими. Я дружила с тамбовскими, нас из Куймани мало было. А с Натальей Алексеевной мы были разлюбезные подружки: и в первый срок мы с ней вместе сидели, и во второй всегда вместе. Однажды пришел в барак начальник, с ним была вольная женщина, стал расспрашивать, как живем. А Дарья Гостева из Липецкой области ему отвечает: «Мы так живем: листья постелили, листья в голову положили и листьями укрываемся». А он все потом выспрашивал и высматривал, заинтересовался нами.
Здесь в лагере уже свободнее было, нас даже предупреждали, когда «шмон» должен быть, и мы старались все спрятать. Здесь с нами была матушка Евфалия, у нее был очень красивый голос. Пасху и другие праздники мы проводили очень торжественно. И вся зона сбегалась послушать, как «монашки» торжественно Пасху встречают и как поют красиво. Когда кто-то из наших верующих освобождался, она проводила обряд освобождения. А потом уходящий кланялся на все четыре стороны. Трогательный был обряд… В лагерях меня дважды судили, на воле дали десять лет по младости, и в лагере дали еще два раза по десять лет. В пятьдесят шестом году я освободилась из Мордовии, но домой меня не отпустили, а отправили в ссылку в Сузун Новосибирской области. Пробыла я там лишь три месяца, и на Страстной неделе, под Вербное воскресение, меня отпустили. В общем, отсидела я почти одиннадцать лет, в сорок пятом взяли, в пятьдесят шестом отпустили. Вот и вся моя лагерная жизнь…
Любовь: Во время войны
Во время войны я скрывалась, боялась, что сошлют, пряталась у тетки и у знакомых колхозников, в Липецк уезжала. В то время в Куймани-то было уже много верующих, колхозников мало осталось, выходили из колхоза многие, хоть и рискованно было. Петр Иванович, например, хотел выписаться из колхоза, подал заявление о выходе, так его тут же и забрали (не вернулся он, расстреляли его, по-видимому). Тогда, в начале войны, к нам пришло много людей, мужчины молодые просили принять их. Один пришел на порог, упал на колени и молит: «Возьмите, Христа ради, чтоб душа моя спаслась!» А тут уже в Ельце бомбили. Мы выйдем из избы, поглядим — а там гул, небо красное. Тогда в войну и пробралась к нам в общину предательница. И нас всех забрали, с собаками пришли, будто звери мы какие. Как же нас били! Потом в кузов забросили и увезли на пяти машинах. Человек 150 гнали по Лебедяни, люди ужасались: «Что такое?» Как пригнали, не нашли даже, как разместить нас. Потом почти всех отпустили, но Федора Ивановича и Михаила не отпустили. А про нас сказали: «Эти-то все наши, мы их всегда возьмем». И отпустили. Колхозники говорили, что нас сослать надо подальше. А что делали тогда еще! Погреб откроют, да и столкнут туда женщину, она там и погибала. И даже детей кидали…
Нас-то не отпустили, и когда забирали, я ничего с собой не успела взять. Но мне помогали в камере, мы ведь все вместе сидели: Агафья, тетка Евгения и другие. Агафью много допрашивали, обвиняли, что вроде она многих в веру привела. Водили нас на допрос с наганом, как вечер, так сразу на допрос ведут. Спать не давали, сидишь, качаешься всю ночь, а утром спать не разрешалось. Не давали спать, не давали хлеба, суп какой-то. Это ведь война была. Допросы были ровно сорок дней, как будто Богом определены. Трудно было.
В камере только начнешь молиться, сразу же надзиратель врывается и давай бить. Потом кого-нибудь заберет — и в карцер. Сейчас как вспомню, так голова болит… Дали мне десять лет и отправили в Сибирь.
Я отсидела пять лет в лагере в Комсомольске-на-Амуре, на пятисотой стройке, и пять лет — в Тайшете. Мы строили железную дорогу: мужчины делали просеку, вырубали деревья, а пни выкорчевывали женщины. В мороз, в сорок пять градусов, нас не выводили на работу, а в сорок градусов мы работали. В Комсомольске рядом с нашим лагерем был лагерь, где было около ста священников. Сидели они с тридцать седьмого года, уже измучены были сидением. Официально их уже освободили, а их все не отпускали. Раньше в лагере убивали священников, так отца Уара убили. Он врачом работал, а «блатной» попросил, чтоб он его освободил от работы. Уар-то тоже заключенный, не мог ему помочь, отказал. «Блатной» и ударил его. И убил…
Сидел там отец Иван, чуваш, и отец Илья. Отец Илья ходил на общие работы, на лесоповал, а отец Иван в прожарке работал и там молился. Отец Иван попросил меня сшить епитрахиль и поручи, я и сшила их из платка. Там ни книжек, ни писулек никаких не было, так что я все наизусть читала, я много знала.
Однажды пришли они к нам, а я чтицей была, читала быстро. А один из священников слушал-слушал и вдруг как заплачет: «Я академию кончил, она неграмотная, а все знает наизусть. А я ведь только по книгам читал».
Отец Иван сказал мне тогда, что неправильно так быстро читать: «Это, как утка по воде проплыла, а следа не оставила. Надо читать медленнее». <…>
Со смертью Сталина стало легче, сначала разрешили переписку, а потом махнули на нас рукой. И мы свободно молились. Монашки нас предупреждали, когда Пасха, мы одевали все новое, платочек чистый повязывали, акафисты читали. Хвалиться не буду, но память у меня хорошая была, я три акафиста наизусть знала. Меня даже хохлушки «покупали»: им посылку пришлют, а они просят меня почитать, обещая: «За это я тебе что-то дам». Когда меня освобождали, провожала меня старая монашка, и она подарила мне этот платочек. Правда, истерся он уже…
Наталья Гончарова: Голосование, колхоз, школа, пионер
В 1941 году началась война, и нас эвакуировали. Я приехала домой и хотела учиться дальше, но меня к учебе не допустили, а определили на окопные работы. Я сделала себе укрытие и скрывалась в нем. Мы всей семьей молились дома, но христиан было много, и мы стали собираться в селе Панино. Путеводителем у нас был Панин Григорий Михайлович. Молились по ночам, потому что преследовали нас, приходилось даже ползти метров сто по картофельному полю до дома молитвы. Окна в доме закрывали ставнями и ставили на улице сторожей, чтобы никто не подошел. Учили нас из Писания, чтобы мы не участвовали в злых делах, не голосовали, не вступали в колхозы, пионеры, профсоюзы, не брали паспортов и пенсий, так как все это относится ко «греху». Писание говорит: «Выйди народ мой из нея, не участвуй в делах ея. Эти дела все антихристианские».
Старших «братьев» и «сестер» забрали, заковали в наручники, побросали в машину и увезли. Остались только старики и дети, и несколько человек молодежи, которым удалось скрыться. Однажды, в 1944 году, ночью военные окружили дома христиан, а на утро забрали в машину, в чем есть, и увезли в Сибирь, в тайгу. Когда перед отправлением построили детей у вокзала, то все шагнули и запели «разумейте языцы и покоряйтеся, яко с нами Бог». Многие умерли, не пережили, потому что их бросили на произвол судьбы. Потом, в 1945 году, арестовали оставшихся «сестер» и «братьев», а вместе с ними и нашу семью: маму, меня и сестру. Посадили в районную КПЗ. Молиться не разрешали, били пинками. Мне за то, что я читала акафисты на память, замком выбили челюсть и исправили с другой стороны. Паек давали не исполна: вместо 400 грамм давали 300 грамм, суп — один раз в день, и то крупинка за крупинкой, за что и называли его баландой. В баню не водили, вши были в камерах и на нас.
Здесь кончилась война. Просидели мы 14 суток, и нас направили пешком в Рязань. Из обуви на ногах у всех были калоши, привязанные веревочкой, а вели нас в начале апреля, по целине, полем. Веревочки порвали калоши, и почти босые шли мы 60 километров до станции «Лев Толстой». Шли и всю дорогу молились, прося защиты у Господа, Матери Божией и всех святых. Паек в дороге не дали, «кормили» всю дорогу прикладами, и защиты нам ни от кого не было. Пришли на станцию ночью. Дали нам камеру, грязную от побелки и не топленную, и мы сильно промерзли. А утром отправили к вокзалу, чтобы ехать в Рязань.
Привезли в Рязань, подвели к дому, написано: «Бюро услуг», а вошли во двор — там внутренняя тюрьма для политзаключенных. Завели внутрь тюрьмы, посадили в общую камеру. Там камеры нас удивили: побелены до половины под краску, койки, матрацы, одеяла, простыни, подушки перовые — все это для политзаключенных. Обыскали нас, сняли кресты, но кресты нам вернула надзорка, ибо она была христианка. Там «печатали» пальцы. Мы все считали это за грех, нам крутили руки, надевали наручники и «печатали»… Потом вывели нас на улицу. Стоит «воронок», стали в него сажать, а «воронок» разбит на тумбочки. По два человека впихнули, даже кости захрустели. Жара непомерная, дышать нечем… Привезли в баню, помыли и обратно в «воронок», так же набили и на место доставили.
Теперь развели по камерам по четыре человека, дали обед: четыреста грамм хлеба и суп. Устали мы, хотелось хоть головой на тумбочки. Стояли у койки и стулья, но только приклонилась — звук в дверь ключами, нельзя спать до отбоя. А отбой был в одиннадцать часов ночи. В глазке беспрестанно движение — подсматривали все. А только дали отбой, только повалились на койку, открылась дверь, надзиратель показал на каждого пальцем и спросил: «Фамилия?» Ответила: «Гончарова». Руки назад, на допрос повели, на второй этаж.
Следователь Сушилин держал меня всю ночь, а задал всего несколько вопросов: голосование, колхоз, школа, пионер. Я отвечала: все «грех». А из этого «греха» получилось целое дело.
Он получал за часы, а нас держал всю ночь. Он может дремать, а нам — сидеть прямо. Ну, какой выход? Мы без сна падаем. Узнали: можно искать вшей в голове. Вот тогда нам пришел отдых, одна другую обыскивала, и обе спали. Утром в 6 часов подъем, спешили помолиться, дальше туалет, завтрак, прогулка, обед, молитва, ужин, а после ужина отбой и допрос. И так шесть месяцев. Судила Москва, заочно Особым совещанием, по статье пятьдесят восемь, пункты десять и одиннадцать. Срок мне дали четыре года. После суда направили нас в общую тюрьму.
Вера Сазонова: Тайные службы в Ленинграде
Весной сорок восьмого года уехал сначала батюшка с крестной, она устроилась на работу в больницу у Балтийского вокзала. Потом она написала мне — приезжай, и после меня приехали уже все: Нина, Екатерина Шаврова, монахиня Мария, инокиня Вера. Со мной отправили икону Тихвинскую в багаже, большую-большую, была такая Евдокия Михайловна, на нее и было адресовано. Я приехала, она меня встретила, и мы пошли с ней багаж получать. Батюшка находился то у нее, то у Александры Еремеевны, то у Ксении Петровны — там же и служил до ареста, до пятьдесят первого года, переходя с места на место. Сосуды с собой возил, доска престольная всегда у него была, и где приходилось ему служить, он ставил ее в угол, антиминс раскладывал и служил. Потом и у нас в Тайцах он служил, и в Мариенбурге — у тетушки, папиной сестры.
На службы собиралось и по сорок человек, иногда даже и по шестьдесят. Вот у Ксении Петровны, монахини Алексии, и ее сестры Марии Петровны большая была комната, Иверская икона у нее какая была! Я запомнила, как пели тропарь, негромко пели, но могли и в голос петь — там толстые стены были, не то, что в новых домах, как бумага. Дом их стоял неподалеку от храма Воскресения на Крови, от Невского по левой стороне канала, длинный-длинный коридор, много комнат в квартире было. Там же у их сестры Александры Петровны была тоже комната поменьше, но вход прямо с кухни, а у Ксении Петровны — с другой стороны.
Отец Тихон, чтобы в туалет выйти, надевал большой платок и, наклонив голову, так шел. Все соседи думали, что у Ксении Петровны старенькая больная родственница живет.
Служили там по полному чину, с вечера всенощную, — потом кто уходил, а кто оставался. Меня обычно оставляли ночевать, на полу под столом. Кроватка для батюшки была за шкафом. Отец Тихон рано вставал, на проскомидию у него уходило несколько часов. Тетрадка у него толстая была с именами, всех поминал, — так и в Латвии было. Он вставал часа в четыре утра, проскомидию служил, потом нас будил. «Вста-вай-те!» — тихонько-тихонько говорил. — «Вста-вай-те!» Дальше уже, как полагается, часы читали, и начиналась Божественная Литургия. Служил часто… Как оказалось потом, следили за нами. И даже с крыш соседнего дома, сидели там и фотографировали. И все потом было преподнесено…
Вера Торгашева: Священник-предатель
По окончании школы я поступила в фельдшерско-акушерскую школу, окончила ее в сорок пятом году и стала работать в больнице. В сорок шестом году Василий Степанович подтвердил, что в официальной Церкви благодати нет, что эта Церковь не истинная. Он проводил для всех беседы, объяснял Писание. Мама моя сразу приняла его, она ведь все видела раньше: как монастырь разрушили, монашек разогнали, церковь закрыли, священников арестовали. Так что мы все пошли за ним с радостью. Молились по воскресеньям и в праздники, читали акафисты, пели стихи. Дедушка Яков и бабушка Варвара предоставили для молений свой большой дом, и все собирались там, много верующих приходило, духовно подкрепляли друг друга, акафисты читали. Был голод, карточки, а они приветливы, чем-нибудь да угостят. Тогда строго было, могли посадить даже за чтение Псалтыря над покойным.
Попал к нам в дом священник-иуда, Пасху он с нами встретил и всех переписал. Только зиму мы вместе и молились, а после Пасхи сорок седьмого года стали забирать наших, сразу пятнадцать человек арестовали.
Первых-то наших взяли в Казани, а я переживала все: «Господи, да что ж это мы-то остались? Когда же нас-то заберут?» К лету сорок седьмого забрали много наших сестер и братьев, уже никого почти не осталось. А мы с мамой все на свободе были. Как-то под Троицу морковь с ней пололи, я ей и говорю: «Что ж делать-то теперь, ходили, читали, так было радостно. Как теперь жить? Так скучно на душе, не к кому пойти, почитать и поговорить, так грустно. Что ж меня-то не взяли? Я б их хоть там увидела». А она мне: «Так ведь тюрьма, там ведь плохо, морят голодом». А я ей искренне: «Так ведь Господь все видит, сверх меры испытаний не допустит. Разве он не поможет?»
Мы все с мамой ждали, когда же нас заберут, не боялись и не прятались. У нас в доме было много книг: «Евангелие», «Иван Златоуст», стишки, письма, фотографии, бабушкин старый молитвенник — мы все прятали в сене, чтоб не отобрали при обыске. Перед самым арестом мы с мамой ночевали в поле, и мне приснился сон, будто к нам подбираются два огромных волка, глаза в темноте светятся. Я в страхе закричала и проснулась. Вот ведь какие волки были на самом деле… А тридцать первого мая к нам пришли, мы только-только выложили книги, чтоб под Троицу почитать с пришедшей Валентиной акафист. Пришли два следователя и женщина-надзиратель, она меня обыскивала. Один из них руководил обыском, взяли божественные книги, письма из лагерей от заключенных и их фотографии, тетрадь со стихами и такую яркую иконочку.
А я страшно переживала, лишь об одном думала: «Господи, кого заберут? Меня или маму? Хоть бы меня взяли, а маму оставили бы». И когда следователь мой Ларичев подошел ко мне и сказал: Торгашева Вера Федоровна, ты Арестована!» — с моего сердца свалился камень, так я была рада, что меня взяли, а не маму.
Братик Витя двенадцати лет, глупенький, попросил у мамы кушать, показав на рот, он немой был, мама налила ему в блюдо щей, а он отодвинул всех, подошел к иконам, положил три земных поклона, помолился и сел за стол кушать. Следователи смотрят с удивлением: «Даже глупого научили Богу молиться». Потом после личного обыска увезли меня, везли мимо института, куда я поступила учиться, где лежал мой диплом. Потом маму все равно арестовали и в лагерь отправили. При допросах меня склоняли дать расписку, что отказываюсь от веры, чтобы вернуться домой. Я отвечала, что хочу быть со Христом, а не Иудой, что хочу молиться Богу о прощении грехов и быть христианкой и славить Бога. Сидела в темной камере месяц, затем перевели в камеру с окошком, там два месяца и каждую ночь вызывали на допрос. Затем повели нас под конвоем на суд по улице, люди смотрели на нас, как на зверей, «враги народа», так называли нас, невинных людей. Верховным судом в Казани после трех дней осудили нас, а после приговора увезли в лагерь в город Глазов в Удмуртии.
Туда согнали «указников» и воров, и нас среди преступников. Кормили плохо, но я никогда не ощущала голода, была довольна пайкой, какую давали. И я благодарила Бога за все, за то, что мне достался такой жизненный путь, все увидеть, все испытать, есть что вспомнить. Мы там видали всех своих «сестер»-христианок: и тамбовских сестер, и рязанских, и воронежских, и казанских. И всех наших «братьев» — они ведь очень много привели с собой христиан, потому и ополчились власти на нашу Церковь.
Потом следователи говорили нам: «Берем-берем, сажаем-сажаем, а их опять полно. Как грибы растут».
Зиму мы там отработали, а весной нас с Александрой Самариной привезли в лагерь в городе Потьма в Мордовии, где я отбывала все шесть лет. Первые дни мы выходили на работу, а пришел праздник, и мы молились Богу. Нас выгнали за зону, мы простояли весь день, не работали, все молитвы перечитали. А в зону привезли и на десять суток в карцер посадили. Тогда мы совсем отказались от работы, нам еще добавили, а затем нас перевели в зону за частокол, где было около ста христиан. Когда мы были на 13-м лагпункте, там было нас человек двадцать верующих старушек, они не выходили на поверку на улицу.
Наталия Гончарова: Отказ работать
После суда нас направили в общую тюрьму. Встретили неприветливо, поселили в общую камеру. Там были «блатные», «фраера», колхозники, а нас звали «монашками». Нас спросили: «Будете работать?» Ответили: «Да, но в праздничные дни не пойдем». Нас посадили в карцер. Здесь нас было много. В этой тюрьме пробыли полгода. Потом нас отправили этапом неизвестно куда. Прибыли на вокзал, объявили: «Поедете в Коми республику». Погрузили в бычьи вагоны, как скот, и повезли. Паек сухой, воды нет, бросали снег. Вагоны нетопленные, и надзиратели. забегали, гоняя нас из угла в угол, чтобы не померзли. Колея дороги одна и разъезды. Вагоны загоняли в тупик, так что ехали мы месяц. Морозы.
Привезли в Воркуту на пересыльку. Там комиссия. Раздевали догола и смотрели приметы. Одевались и на места. Потом повезли по лагерям. Я одна попала на Предшахтную, где начальником был Бакулин. Завели меня в барак. Барак на двести человек, на окнах решетки, справа стояла большая кадка для оправки. И всю ночь движение на кадку — вонь, дышать нечем. Мужчины пробирались к женщинам, было что-то страшное. Когда я была в бараке, бесконечно стояла на молитве.
И тот же вопрос и мой ответ: работать буду, но в христианские праздники, сколько бы их ни было, нет. А они без разговора посадили в карцер, — раздели, оставили только обувь, юбку, кофту и платок. Карцер топили плохо, холод. Давали триста грамм хлеба и стакан воды. Я накидывала юбку на голову, она широкая была, дышала и этим немного смягчала холод. Молилась, пела молитвы, псалмы и тем утешалась. Отсижу пять суток, потом двое суток в бараке, и обратно на пять суток в карцер. А то ставили на мороз около карцера, тогда замерзала до крайности, другой раз не могла ноги развести. Замерзала, приведут в барак, ночь там, и опять в карцер. И так прошло четыре года.
Перевозили из лагеря в лагерь. Отсидела срок, но домой не пустили, а повезли на высылку в Красноярский край, Абанский район. Нас там распределили по колхозам. Нас было четверо, и нам двум не дали квартиру. Нас приняла женщина, у нее двое детей. От колхозной работы я отказалась категорически, и мы стали работать частно, у людей. Кому вязали, шили, а за работу — сколько дадут. Потом судили меня районным судом и дали шесть месяцев «принуды». Я от них отказалась. Из деревни Петропавловка отправили нас в тайгу, потому что продолжали не работать, не голосовать и т. д.
Приехала моя сестра и еще две духовных сестры. Нас арестовали в деревне Баикино и отправили в Абанскую тюрьму под следствие. Следователь Разумов. Законы те же, что и в Рязани: также отбой, допрос ночной и так далее. Просидела я шесть месяцев, и Москва осудила Особым совещанием по пятьдесят восьмой статье, пункты десять и одиннадцать. Дали восемь лет — это уже третья судимость. Направили меня в Иркутскую область, в город Тайшет, попала я в восьмую колонну. Как только вступила я ногой через ворота лагерного пункта — палачи русские встретили: наручники и палки в руках. Охрана била христиан как скотину, потому что допускалась на работу пьяная.
В лагере было восемьдесят верующих, но разной веры. Там уже были и наши «сестры», их как раз вытащили полумертвых из карцера и отправили в стационар. А меня сходу в карцер. Карцер размером два метра длины и полтора метра ширины, а нас набили туда, как селедок, да еще натопили. Стали гнать всех на работу. Меня объявили бригадиркой, как грамотную и всех моложе. Я отказалась, а дежурные в конторе, где бригадирам давали разнарядку, стали «развлекаться» со мной: пинками били меня из угла в угол, как мяч, и приговаривали: «Ищи пятый угол».
На другой день пришли в барак пьяные с палками, стали бить всех христиан, включая и меня. Били как скот, никакого сожаления.
Потом стали сбрасывать женщин с верхних нар на пол. Одну христианку по имени Марфа сбросили, а она угодила головой на угол выступа, по которому залезали на верхние нары. Голову пробила, чуть кулак не влазил. В дверях стояли дежурные и никому не давали выйти. Но я прорвалась, за что хотели убить скамьей, но другая «сестра» заслонила собой, и ударили ее. Была свалка и неразбериха, но все же я добежала до начальника лагеря, он же был главврачом санчасти. Он быстро взял Марфу в санчасть и потом залечил рану. А эти пьяные надели «сестрам» наручники, и у некоторых от них кровь брызгала. Мы никому не жаловались, боялись греха и терпели ради Христа.
Потом меня одну посадили в БУР. БУР отличался от карцера величиной, туда можно было набить христиан человек сорок, как селедок. Пришли эти три «лба» и стали бить: один в одну сторону груди, другой в другую, третий — куда попадет. Били под сердце, но Матерь Божия сохранила. Потом они что-то стали шептать. Я испугалась, что они меня изнасилуют. Но они придумали другое: повалили меня на пол, один взял за голову, другой за ноги и прихлопнули несколько раз об пол. Решив, что я убита, потащили из БУРа в карцер и там бросили на цементный пол. Я опомнилась, поднялась и слышу стоны других.
Прошло немного времени, перевели меня в разваленный барак, а там были «сестры» по духу. Стали молиться вместе. Меня просили почитать акафисты, я знала на память утреннюю и вечернюю молитвы и три акафиста: «Спасителю», «Матери Божией» и «Николаю Угоднику». Я стала читать, а нарядчик и бригадир потребовали, чтобы бросила читать. Бросить не могла, боялась, если меня Господь накажет. Тогда они дождались ночи, выгнали всех из барака, оставив меня одну. И стали кидать меня на пол спиной, чтобы отбить почки. Как же я просила Матерь Божию о помощи! И не чувствовала боли, падала на пол, как на подушку. Тогда они потащили меня один за одну ногу, другой за другую. Я думала, они меня раздерут. А они подтащили меня к двери, и один, опираясь на нее, шагнул на живот в кирзовых сапогах. Если б я была не голодная, то могло бы все полопаться.
Потом надзиратель позвал одну христианку, Кокореву Анастасию, узнать, жива ли я. Она подошла, заплакала: «Наталья, жива ль ты?» Я улыбнулась и сказала: «Жива». Они меня перенесли на солому, и у меня живот был от низа и до пояса черный, просто угольный. Врачей вызвать было нельзя, палачи могли и добавить. Когда я немного выздоровела, нас повезли на сенокос. И я опять отказалась работать. Там карцера не было, вместо него был подпол. Днем я ходила по лесу до запретной зоны, а ночью меня сажали, даже не сажали, а клали в этот погреб. Кто там, в подполе, крысы, мыши? Но их я не боялась. Боялась мужчин — они все позволяют. Они сажали меня в муравьиные кочки нагой. Я просила Спасителя и Матерь Божию и всех святых на помощь, чтобы дали мне, грешной, терпения.
Как-то начальник подвел меня к реке, хотел напугать или вправду бросить меня в реку. Я схватилась за него и сказала: «Падать будем вместе». Отпустил. Бани там не было, вшей стряхивала в костер. Так прошел весь сенокос. Потом обратно восьмая колонна в Тайшетлаге. Продолжалось мучение. Привели нас в барак, сняли всю домашнюю одежду до гола, принесли белье «сорокового срока», как говорили «блатные», валенки на полметра, рваные бушлаты, мужские шапки и ватные брюки. Мы не стали брать, нас теперь четверо было. Сидим голые сутки. Утром «сестер» одели насильно во все рваное, а мне принесли мою рубашку и на руках отнесли в больницу. Я там пролежала месяц.
Потом опять в карцер. Летом жара невыносимая, пить хочется. Я была в карцере, а сестры — в БУРе. Они были свободнее, могли выходить в коридор. Там стояла бочка с водой, противопожарная, вода зеленая. В карцере была дырка вверху. Они делали из бумаги трубочку, вкладывали в дырку и лили эту зеленую воду мне в открытый рот. Я ловила воду, пила, даже эта вода была медом. Потом надзиратели заходили в карцер и били христиан дрынами — подобие толстых палок — как скотину. Даже надзиратель с вышки не вынес, стал кричать: «Бросьте! Поступаете не по закону!» По-видимому, он вызвал комиссию из Иркутска.
На другой день приехали девять человек комиссии, стали спрашивать «сестер», потому что лица у них были синие: «Откуда у вас синяки?» Они отвечали: «Мы упали».
Потому что нельзя было сказать, надзиратели-то стояли сзади и грозили кулаками в знак молчать, а то убьют. Но «блатные» встретили комиссию и рассказали, как издевались над «монашками», так звали нас, потому что мы молились Богу.
На следующий день приехали два капитана. Одного фамилия, помню, была Ульянов. И здесь при встрече «блатные» ввели их в курс дела. Потом они стали по одному всех допрашивать. Здесь мы все рассказали.
В карцер нас потом сажали, но бить перестали и завели дело на суд. Подсадили к нам «наседку», чтобы подслушивать наш разговор, а мы-то их знаем. И когда меня вызвал следователь, я сказала: «Выведи предателя, мы и так вам известны. И еще чего хотите узнать, все расскажем». Вывели ее, подписали под меня двадцать четыре «сестры», как главную. Я сказала следователю: «Почему вы меня сделали главою, я всех моложе?» Он ответил: «Без главы группу не судят». Просидели в карцере под следствием две недели, и осудили нас иркутским судом на десять лет. А это уже судимость четвертая. Привели с суда, «сестер» посадили в БУР, а там пол цементный. Спать на полу холодно раздетой, на нары ложились бочком, как селедки, так и перевертывались. Одна вылезет с места, остальные повернутся, потом она втискивается. А меня оставили в карцере.
В карцере я сидела долго, топили плохо, через день. Я на доску, прикованную к стене, не ложилась, она была холодная. То присаживалась на корточки, то обратно ходила.
Все ходила, пела молитвы, читала акафисты, пела псалмы, вспоминала Спасителя, как его распяли, как в древние времена мучили мучеников. И сама успокаивалась, говорила себе: «Все ради Христа и спасения души».
Но сколько ни борись, холод, мороз сломит. Стала я уставать. Садиться невозможно на цементный пол, доска у стены примкнута, я из сил выбилась, сердце стало колоть от мороза, мне хотелось спать.
Я стала ждать, когда откроют ледяную доску, а ее открывали в одиннадцать часов, и я лягу, зная, что замерзну. Открыли доску, я помолилась и легла. Вдруг от потолка спускается женщина, вся в черном, лица ее я не видела, и прямо на меня встала. Помолилась и думаю: «Что бы это значило?» Походила и обратно устала, легла, а она опять спустилась, и все повторилось. И сколько я не пыталась ложиться, все же до утра она не дала заснуть. Утром отдали мне одежду и перевели в жаркую камеру, где я начала от жары задыхаться. Все сбросила с себя и легла на пол на пиджак.
Потом, за не исправление наших поступков, нас увезли за Братск, лагерь уже не помню. Там завели дело на нас, отослали в Москву. И опять осудили нас на год закрытой тюрьмы. Отправили на Урал, станция Мишкино. Там мы успокоились, дали нам отдых. В камере нас было человек десять. Кормили три раза, час прогулки, лежать разрешали поверх постели. Молились мы, сколько хотели. Срок шел незаметно. Однажды пришел начальник и сказал: приезжала комиссия с Москвы, вас будут отпускать. Мы ему поверили, он никогда не врал, фамилия его Ухов. И, правда, к обеду стали вызывать. Всех освободили, а с меня не сняли судимость и оставили досиживать четыре месяца до двенадцати лет. А десять лагерных лет сняли с меня.
Александра Самарина: Церковь в бараке

В карцере я сидела в десятом лагере, потом, в сорок восьмом году, перевезли на тринадцатый, в Потьму. Тут уж другая жизнь началась. Мы жили сначала все в разных бараках, потом собрались: Норкина Александра, тетя Наташа, Мария Алексеевна, Варвара. Сначала мы работали, нас мало было, и мы все вместе были. А когда все молились у частокола, старушки и мы, на нас смотрели, как на негодный элемент, не поддающийся воспитанию. В лагере иконочки нельзя было иметь, у кого что было, прятали. Как обыск, так все тряпочки перетрясут, что не нравится, выкидывают, а там — сумочка, в которой смена белья. <…>
Потом, в сорок девятом году, стали привозить старых монашествующих. Много навезли: со Ставрополья, Харькова, Уфы, Бугульмы, Аши, Ярославля, Рыбинска. Они уже молились со священниками по домам. Из Курджиново много было, они поминали архимандрита Феодосия Минводского. Была еще Святослава из Грозного, власти ее «матушкой» называли, но с ней никто из наших не молился. Была Екатерина Голованова, монахиня Антония. Очень много монахинь из Кирова было, у них в лесах землянки были, где жили священники и отдельно монашки, они там совершали Литургию, а люди мирские носили им продукты и все необходимое. Когда их стали преследовать, монашек и священников забрали, и этих мирских, которые помогали им, тоже забрали. Таких монашек было очень много. Я знала, что у нас были священники, старшие братья говорили, что был епископ Уар, отец Стефан, в монастыре служил, но я их лично не знала.
Когда монашек привезли, я сразу к ним примкнула, стала молиться с ними. Конечно, тут не только монашки были, и мирских полно было. Нас человек сто пятьдесят было в отдельном бараке, к вышке поближе, частоколом огороженном. Матушка Фекла была уставщицей, церковный устав хорошо знала, на каждый праздник читала свой тропарь. Нельзя сказать, что монашки очень грамотные были, но повседневную службу на память помнили, акафистов много знали, на память читали.
Переписывать было опасно, нельзя, чтобы видели, «стукачи» были, но все равно записывали молитвы специально заточенными палочками, к которым привязывали перья, а чернила делали сами.
Молитвы мы хранили в телогрейке, обычно их не прощупывали, рассовывали в разные места, я помнила, где что хранилось. Мы там всю службу исполняли, в четыре часа вечера начинали: вечерню, утреню, повечерие, вечерние молитвы. В двенадцать часов ночи вставали на полуночницу, они ее тоже на память помнили. Утром молитвы утренние, часы, изобразительные, акафисты. У кого-то память — панихиду служим, кому-то именины — молебен, и так до двенадцати часов стоим и молимся. Четки сами матушки вязали, нитки-то присылали, но мы прятали их, если увидят, порвут. Мы под замком поем, молимся, а люди стоят у забора, слушают.
Бывало, «дежурняк» войдет: «Молитесь?!» И давай пинать и пинать. Но это зависело от «дежурняков». Бывало, идет, кричит: «Монашки, я вас сейчас поубиваю! Я вас сейчас поубиваю!» А мы, как стояли, молились, так и стоим, молимся. Он войдет, пересчитает нас. Мы же под замком здесь сидим, никуда же не уйдем, так специально говорит: «Выходи на улицу, проверка». А в бараке калеки, до девяноста лет были старушки. И вот, выходи на улицу на мороз, а не идешь, тебя пинает. Хороший «дежурняк» придет, запишет — и все. А этот бьет и по голове, и с нар кидает, что только не делал. Идет «дежурняк», сидят старушки, войдет — они должны вставать перед ним, как по струнке. Но тогда я могла встать, а теперь разве встану. Не встала — ага, за шкирку ее и в карцер. А посадит в карцер, никто не имеет право выпустить, только тот, кто посадил. Вы посадили, вы и должны выпустить, а вы забыли, мы и сидим, сколько вздумается.
В тюрьме был один надзиратель, все время надсмехался над нами. Мы читаем наизусть, а он стоит и ножечком тычет: «Кланяйся, кланяйся, ниже-ниже». Перешили мы фуфайки, он заметил: «Где вы их взяли? Как это, вы не работаете, не получаете, откуда у вас?» А мы все там сами шили и на сахар меняли у украинок. Они удивлялись, что в пост мы ничего не брали, только хлеб и кофе. Они думали, что мы дадим подписку, а мы не давали, на этом и жили. Я прожила все девять лет, и Господь давал терпение, силы и все. Ложку каши кто-то берет, а кто-то не берет, — мы боялись, ведь они в кашу мясной бульон лили, чтоб накормить монашек. Простую воду не пили, она там грязная, желтая, два ведра кофе на всех принесут, возьмешь кружечкой — и хватало. Сахара четыреста грамм в месяц давали. Посылки в Мордовии не получала, их получает, кто не нарушает режима, а мы нарушали, и нам не положено. И два письма в год.
Потом сказали, будут номера давать, а наши бабушки сказали, что это печать антихриста. А я откуда знаю? Я книжки церковные не читала, что сказали, я этому всему верила. Я говорю: «Матушка, как же я могу не взять? Я одна молодая, вы все старые. Уже сказали, что будут раздевать, кто не будет брать». Она мне: «Ну, что же, пусть раздевают. Мы все равно брать не будем. Нас сто пятьдесят человек, что мы тебя не спрячем?» Хорошо, стою на молитве. В четыре часа вечера мы начали молиться, приходит «дежурнячка». Молитву мы не прерываем, на коленях стоим. За то, что мы не прерывали молитву, за это нас колошматили мужчины, и так били… Один надзиратель Кискин больше всего бил, и Бог наказал его, хата у него сгорела. <…>
Тетя Груня, в карцере дневальная, спрашивает: «За что тебя посадили?» — «Не знаю». — «Чего ты сделала?» — «Не знаю. Молилась Богу. Посмотри, вот тут у меня больно». — «Да у тебя здесь все синее». Вот так над нами издевались.
Нас не считали, что мы люди, просто сор. Если б можно было, нас сразу бы в песок превратили. Но Господь не допускал. Молились все время, наше утешение было молитва и пение.
Кончили пение, у всех голос устал, а про меня говорили «луженое горло», потому что пела звонко и никогда не уставала. На праздники мы всегда пели, хоть и заставляли ложиться вовремя. Мы после ухода конвоя садились и ждали двенадцати часов. Ждали праздника — такое счастье! <…>
О смерти Сталина я узнала в бараке, многие плакали, а я ничего. Из верующих никто не плакал, говорили: «Он столько крестьянских душ погубил. Ленин столько не сделал, сколько Сталин». На прощание со Сталиным нас всех подняли под гудок на минуту молчания, утром дверь открыли, кричат: «Встать!» Все сидят, они снова: «Встать! Почему не встаете?» Я говорю: «Поклоняюсь одному Господу Иисусу Христу и не собираюсь поклоняться антихристу». Как он дверью хлопнет, загремел замком и ушел.
50-е годы

Игумения Евфросинья Махрова: Поиски Церкви
В детстве мы ходили в церковь в селе Семикеево Кайбицкого района, это в Татарии, а в войну ее закрыли. После войны открыли церковь в Гарях, и я туда с подругой Анной ходила и приходила на покаяние. Мы с ней ходили по болящим юродивым, которые все знали, и у них допытывались, можно или нельзя ходить в церковь. Они все нам говорили, что в эту церковь, которую после войны открыли, ходить нельзя. Но мы все же ходили, ведь поп у нас старинный был, он нас уважал. Потом, когда умер Сталин, мы услышали, что в церкви отслужили по нему панихиду. Вот тут-то мы и засомневались, обратили еще внимание, что в церквах молятся о властях и воинстве. Как же так? Власти-безбожники. Какое воинство? С того времени как разрубили, больше ходить в церковь не стали. А поп нас вызывал и спрашивал, почему Анна с Елизаветой перестали ходить? Мы пришли к нему на квартиру в дом и сказали, почему. Но он нам ответил, что нет, пока еще можно ходить. Мы ему говорим, как же можно, ведь провозглащаете вы так и так?
А он говорит: «Я, вроде, не упираю на это. Я только о воинстве, а о властях, вроде, и не упоминаю». Мы ему: «Как же, поминаешь». И все, больше не стали туда ходить. А все равно было жалко, ходили еще, проверяли, можно или нет. Без церкви-то как же?
А уж потом стали искать тайных священников. Конечно, трудно найти было, ведь они скрытые были. Первый священник Иоанн служил у себя дома в деревне, стали к нему ходить. А корни у него откуда? Мы тогда еще не понимали. Долго мы к нему ходили, пока мне не указали, что надо бы узнать, кем он рукоположен. Спросила, а он мне сказал, что вот таким-то отцом Серафимом рукоположен, но не в священники, а в дьяконы. Я спросила: «А как же вы служите священником-то?» Он говорит: «Что ж, священников-то нет». Ну, мы и бросили его, стали искать еще. Одна монашка сидела в тюрьме, а брат ее жил возле нас. Он пришел как-то к нам и говорит маме моей: «Тетя Оля, у меня сестра приехала и ищет, где верующих найти. Она из тюрьмы пришла, сидела за голосование. Голосовать не ходила, ее и забрали. Теперь она освободилась и вот пришла». Мама сказала: «Пусть придет, нам тоже хочется поговорить с ней». Вот монашка эта пришла к нам, и мы с ней долго беседовали. Потом она еще раз пришла, мы говорили. Опять пришла к нам, а потом мы добились, и она сказала, что есть у них священник, отец Амвросий.
Мы стали к ней приставать, спрашивать, как к нему попасть. Долго просили, потом она сказала: «Ладно, поеду и спрошу, разрешит ли он, или нет». Ведь он тайный был. Мы ждали, конечно, долго ждали. А она потом письмо прислала: «Готовьтесь». И было это в середине пятидесятых годов. Она предупредила нас, когда поедем, чтобы дали телеграмму на адрес, который дала, чтобы нас встретили. Мы дали телеграмму и поехали, я и еще один старик. Встретили нас на станции Мазурка, тогда отец Амвросий жил у монаха Мелетия в селе Поворино. Встретила нас там старушка, а они сидели в саду. Мы в сад прошли, я к нему не подошла, только кланяюсь издалека. Ведь все делали втихую, украдкой, это сейчас вольно. Вот покланялись мы. А скоро должна была быть электричка, мы и поехали, они впереди, а мы за ними. Доехали все до станции Калмык, они пошли на квартиру к одной монашке, а мы к другой. Потом за нами приехали молодые ребята и повезли всех на лошади. Поехали, когда стемнелось, они батюшку Амвросия и этого старика, приехавшего со мною, положили на телегу и накрыли. Доехали до села, забыла какое, кажется, Варваринка. И вот там всю ночь молились, батюшка Амвросий, отец Мелетий и ребята, пять человек.
Матрена Рыбкина: о. Гурий

Приехала я в Цивильск и обратилась в райздравотдел, чтобы на работу поступить, и они меня сразу же направили работать медсестрой в детский дом. Там около трехсот сирот было, в возрасте от трех до восемнадцати лет — их там кормили, поили и воспитывали.
А детский дом располагался в святом месте, в бывшем женском монастыре. Когда-то монастырь разорили, а двухэтажные корпуса монашеских келий остались целыми, там и поселили детей. Сохранились и две церкви, в одной клуб сделали, а в другой — педучилище. Внизу речка была, место красивое. Мне квартиру в доме дали наверху, в келье, где раньше монашки жили. Кельи у них такие красивые и аккуратные были, в комнате поменьше я сама жила, а в другой сделали амбулаторию для больных детей. Там я их принимала, а внизу были четыре палаты для лежачих больных. За больными детьми ухаживали две пожилые женщины, они христианками были и верили в Бога.
Позднее я заметила, что у них собирались верующие, пели псалмы божественные, Евангелие читали, но приходили они тайком. Потом они и меня стали приглашать, я заинтересовалась, стала ходить к ним, молиться.
И жизнь моя духовной стала. Дома-то я воспитание христианское не получила, не знала, есть Бог или нет, не знала, что грех. А в школе учили нас, что Бога нет, а здесь до меня дошло, что место это святое находилось под покровом Царицы Небесной, что она обо мне беспокоилась и меня не оставила. Христианки стали учить меня молиться, акафисты читать, посты соблюдать — я-то ведь ничего не знала.
Они часто говорили, что сейчас страшное время, на престоле сидит антихрист, сам сатана, Сталин, значит. И в церковь ходить тоже нельзя, и замуж выходить нельзя, так как идет время последнее, скоро Страшный Суд будет, и судить будут живых и мертвых. И мне осталось только Богу молиться, иначе пойду я на вечные муки в ад, если не уверую в Бога. Стала я больше молиться, акафисты читала, поклоны била, посты соблюдала. И все это тайно, никому не говорила ничего. Молитвы переписала все, потом выучила наизусть акафисты «Спаситель», «Царица Небесная». Бывало, иду куда-то и читаю их, всегда со мной молитва. И сердце мое возрадовалось! <…>
Потом в моей комнате отец Гурий стал проводить по большим праздникам богослужения. Служил ночью, при свечах, почти всю службу отец Гурий сам читал и пел, всегда на чувашском языке, а мы только подпевали, поскольку мало что знали. В комнате у меня была печь большая, отапливала мою комнату и соседнюю, где амбулатория была. За этой печкой отец Гурий сделал тайничок для себя; у стены, где было небольшое пространство, он выпилил в полу доски в рост человека и как-то устроил так, что в случае необходимости он мог туда влезать и прятаться.
Сама я стала меняться, старалась в христианстве себя держать, в кино, в клуб на танцы перестала ходить, пестрым нарядам предпочитала темные.
Душа моя все время пела «Царица Небесная, радуйся, Благодатная». На выборах однажды в бюллетене так зачеркнула фамилию кандидата, что не видно было букв. В другой раз, когда было два бюллетеня, синий и красный, взяла с собой красную промокательную бумагу из ученической тетрадки и опустила ее вместо бюллетеня, а бюллетень принесла в детдом и сожгла в печи у себя. Потом вообще перестала на выборы ходить.
Когда же с воспитанниками детского дома стала беседовать о Боге, кто-то донес. А там уже заметили, да я и не скрывала, что в Бога стала верить, не скроешь все равно. Решили вызвать меня на собрание; были председатель райисполкома, директор детдома и завуч, учителя и воспитатели, — народу много было. Позвали меня, поставили впереди всех и спросили: «Скажите, Вы правда в Бога верите? Говорят, что Вы молитесь». Я ответила: «Да, я в Бога верую, и буду веровать. Бог есть». Они не стали долго разговаривать: «Ты будешь нам детей портить. Будешь мешать нам по коммунистически воспитывать их. Мы тебя с работы уволим».<…>

Отец Гурий скрывался, за ним все время следили, открыто ведь нельзя было молиться, и он только по ночам молился и службы проводил. В ту ночь на службе нас было шесть человек, две сестры эти, мать их, я и еще один верующий, Иваном его звали, он тоже скрывался, и иеромонах Гурий. Потом мы узнали, что Иван раньше попался чекистам, и они дали ему задание, — найти и предать Гурия, — тогда его не будут преследовать. Так этот Иван и расписался в этом, Иудой сделался, а мы не знали этого. И он специально пришел на службу, старался, молился всю ночь, а утром встали мы, и он предложил: «Давайте, я за хлебом схожу».
Пошел он, тогда с хлебом трудновато было, очереди большие были, а мы остались, только-только рассветать начало. Полчаса не прошло, как окружила избушку эту милиция. Много их было, и сам начальник был да с такой радостью, прямо с трепетом и алчностью, что поймал, наконец, Гурия. Зашел он смело, как лев на голубчиков, и сразу под койку залез, да отца Гурия оттуда и вытащил. Нашли при обыске у него книжки и все служебное, и все забрали. Потом увели всех нас в КПЗ, лишь мать-старушка осталась в доме. А Иван так и не показался.
Меня и двух девушек по разным камерам развели, на другой день пришел следователь Кирпичев, молодой такой, стал уговаривать меня, чтобы я отказалась от Бога, тогда, дескать, простят меня и работать позволят.
Потом вопрос задал: «Ты хоть признаешь Сталина или нет?» А я у него спросила: «А он верует в Бога?» — «Нет, он не верит». Тогда я ему: «Ну, тогда и я его не признаю. У Христа ничего общего с этой сатаной нет».
Он за волосы себя взял, ужаснулся просто, потом махнул рукой и ушел. В час ночи приехало начальство, опять испытывали, стращали, уговаривали, потом увезли меня в Чебоксары и поместили в одиночную камеру в старорежимной тюрьме.
Следствие наше тянулось почти шесть месяцев, по групповому делу проходило четыре человека: я, сестры Мария и Татьяна, отец Гурий. Частенько мы на пути испытаний мучаемся, мытарства испытываем, а потом, может, за то, что я маловерна была, Господь чудеса показывает. Вот однажды вывели меня в туалет ночью и со мной еще двух девушек. Это в январе месяце было. Ночь ясная была, луна полная светила. Мы глянули — а на луне полной и светлой поперек крест большущий еще светлее горит. Это же чудо было от Господа!.. Потом весна настала, в камеру ко мне двух девушек привели с нашей местности, у них тоже следствие шло. Они меня знали, все новости мне рассказали.
А в июне пятьдесят второго года нас осудили на десять лет лишения свободы, а иеромонаху Гурию дали двадцать пять лет. Отправили меня по этапу в поселок Кенгир в Казахстане. <…>
Пока нас вместе везли, мне украинка одна, восемнадцать лет ей было, сказала: «Мне дали двадцать пять лет тюрьмы. А за что? Частушки я пела на улице с девчатами против Ленина». Другая сказала: «У меня спросили: «Сталина признаешь?» А я ответила: «Что Сталин, что собака — одинаково». Мне и дали за это двадцать пять лет». Еще одна в колхоз не пошла, рассказывала: «Я сон видела про Ленина и Сталина. Рассказала, а мне за это тоже двадцать пять лет дали». Вот такие там собрались. Привезли меня в лагерь в Казахстане, а там семь тысяч народу находилось, половина зоны мужская, половина женская. Русских мало было, в основном, католики из Латвии, Литвы и с Украины, и каждый по-своему молился. Они скромные, богобоязненные, боялись Бога.
На работу их под конвоем водили, все они подчинялись и работали, траншеи рыли вручную. Там каждый рабочий под номером был, на спине был нашит белый номер и на подоле у женщин, как раньше у каторжан было, ведь лагерь был особым, каторжным. А мы, христиане, не принимали номеров, нам не положено принимать это. И мы сразу отказались работать, нам грех это, мы невинные и не преступники. Мне нечего искупать, зачем же я буду работать? Я только Богу молиться должна. И нас, христиан, кто не работал, считая, что грех, особенно в праздники, отдельно водили, для нас были смертные камеры.
Вера Сазонова: Аресты продолжаются
В январе пятьдесят первого года отца Тихона арестовали. … С отцом Тихоном забрали монахиню Алексию, в миру Ксению Савельеву, ее сестру Марию Петровну, инокиню Пантелеймону, в миру Екатерину Розанову, инокиню Магдалину, в монашестве Марию, а в миру Марию Петрову, монахиню Иоанну, в миру Меланью Чаенкову и монахиню Анну (Мяндину). Отца Тихона, монахинь Магдалину, Алексию и инокиню Пантелеймону приговорили к двадцати пяти годам лагерей, остальных — к десяти годам.
Не знаю, в одном ли лагере они были, знаю, что посылки им отправляли, а письма — не помню. Я работала в городе, приезжала к ночи, утром рано уезжала опять. Денежки давала, как получку получала, крестная распоряжалась и собирала посылки. В благодарность всем, кто отправлял им в лагерь посылки, инокиня Пантелеймона вышивала салфеточки левой рукой, правая у нее была серьезно повреждена (после войны, когда жила в Латвии, она пострадала в загоревшемся автобусе: спасала людей, тушила на них огонь руками; ей пересадку кожи сделали, вся кисть была сожжена до костей).
Правая рука у нее не действовала, она писала левой, так мне и переписала Акафист святым мученицам «Вере, Надежде, Любви и матери их Софии».
В пятьдесят шестом году все вернулись: первой отпустили Марию Петровну, она болела там и все время лежала; потом ее сестру, монахиню Алексию. Я помню, когда она вернулась и пришла к Аннушкам, в то время у них был иеромонах Сергий, старенький и больной. Говорили, что он сам писал брошюры церковные, его и взяли с этими брошюрами, да так били, что он оглох, бедный, — не знаю, откуда его привезла Мария Николаевна, наверное, он тоже был тогда освобожден. <…>
В пятьдесят шестом отца Тихона выпустили. Его взяла на поруки инокиня Вера, в миру Вера Гурилева, он постригал ее в Латвии. После освобождения ему было запрещено жить в Питере, только на сто первом километре, и он поселился в Окуловке. Однако постоянно ездил и служил в разных местах: в Питере, в Тайцах у крестной, в Красном Селе у монахини Магдалины. Мы его обычно провожали, но однажды прямо на вокзале его взяли — это было уже в шестидесятых. Приехал он в Питер, и у Зои Васильевны отслужил одну Литургию. Я его провожала к Наталье Сергеевне, жившей на Каменоостровском, недалеко от Карповки на Петроградской стороне. Вошли, а там Ксения Петровна, Матрена Ивановна с Васильевского и еще одна. Я ее увидела и сразу почувствовала — предательница! Я была впереди, батюшка шел позади с палочкой, прихрамывал. Что делать? Назад повернуть — уже поздно… Она давно пробиралась, все хотела встретиться с отцом Тихоном и Ксенией Петровной. Я еще ничего не знала, просто почувствовала — все… Матрена Ивановна предложила ему рубашечку, сказала: «Батюшка, Вам нужно рубашечку поменять». А он весь мокрый, потел сильно. У Зои Васильевны ванну-то принял, и белье мы ему поменяли, а рубашечку-то не догадались постирать, она на батарее за ночь и высохла б…
… Три дня держали его в Большом доме, предупредили его: «Ты что? Тебе мало было? Еще попадешь, опять там будешь». Он им: «Ну, что я особенного сделал? Ну, двух-трех старушек напутствовал к смерти». Они: «Да? А Вера Харламова тоже старушка? У нее и ночевал, и ванну принял, у нее и белье поменял, только рубашки не нашлось. В Тайцы поехал, калошу потерял, в магазин заходил, маленькую купил». Все ему выложили… Потом отпустили его, но пригрозили: «Хоть лоб себе разбей, но чтоб никуда. И к тебе, чтоб никто». <…>
После этого отец Тихон не ездил, раз еще попытался, пошел, купил уже билет. Вдруг подошел к нему молодой человек и сказал: «Дедушка, верните билет обратно, если хотите жить на воле». Так и пришлось ему остаться, уже мы сами ездили к нему. Постоянно ездила Ксения Петровна, потом Алексей Петрович Соловьев, но особо не позволяли ездить другим, чтоб не привлекать подозрение. Возили исповеди, от него привозили просфоры — батюшка сам пек, очень хорошо пек и для именинника всегда большую, как булочку. И вот — каждому просфору. На проскомидии всех помянет, ему не надо было записки подавать, он всех записывал к себе в тетрадь, так по тетрадочке и поминал. А как-то помню, мне к именинам прислал тропарь мученице Вере, написанный своей рукой. <…>
Когда отец Тихон был в лагере, монахини Агафья и Анисия с островка в Новгородских болотах, с «земли обетованной», нашли батюшку. Как-то меня отправили сестры к ним, и я попала на службу к этому священнику. Записки все написали ему, а он говорил: «Я ведь почему так тайно служу? Я уже слаб и в церкви не могу». Я подумала, он это специально говорит, чтобы я не выдала. И вдруг, когда на службе с Чашей выходит, поминает Алексия. Я смутилась, но все-таки причастилась, пошла домой и почувствовала, что заболеваю. Матушку Анисию спрашиваю:
— Вы слышали, когда он поминал?
— Кого?
— Алексия
— Как?
— А вот так!
Пришли на островок, она: «Агаша, Вера-то заболела. Да, батюшка-то Алексия поминает». А я их спросила перед этим: «Батюшка-то истинный?» Они: «Иди-иди, еще будешь разбираться». Да, как же не разбираться! Вот сами-то не разобрались, решили, что, если дома тайно служит, то все в порядке. Они перестали ходить, потом и его прислужница от него ушла и к ним пришла. Она их и хоронила. Они все у отца Тихона потом окормлялись…
Серафима Аликина: Службы в бараке
Летом, помню, затосковала я по детям, решила навестить. На животе ползла по огородам, потому что охрана в деревне была. Только вошла в дом, детей обняла; тут за мной и пришли в двенадцать часов ночи, как за зверем, пять человек с оружием. Когда забирали, я говорила: «Господи, помоги мне, Господи!» А им сказала: «Что вы за мной, как за преступником, ночью пришли? Вы что, не могли днем?» Детей испугали, тащат их, а я только кричу: «Господи, укрепи меня! Архангел Михаил, помоги!» Они говорят: «Она с ума сошла». Что на мне было, в том и взяли, я даже платок не успела повязать. Дети за мной бегут, кричат: «А мы как? А мы куда?» Они остались ни с чем, одежда вся в заплатках, над ними, детьми пяти и семи лет, никто не сжалился.
Как была я босиком, так и повели, причем, те же охранники, от которых я ушла. Они были злы на меня, — всю дорогу били и топтали, сбросят с телеги и топчут. Все мне переломали: и ребра, и грудь. Когда меня привезли, провели осмотр, сняли крест, отобрали какие-то вещи, осмотрели волосы, рот — все. Меня посадили на одну неделю на карантин, на допрос сначала не вызывали, подсылали ко мне под видом заключенной женщину, чтобы она послушала, что я буду говорить про советскую власть. Следователь ее выводил как бы на допрос, а она ему рассказывала все, что узнала. Где молились, кто пастырь как молились? <…>
В смертной камере клали, как в могилу, в холодной камере находилась долго, там все стены были в крови. Охранник был молодой, сочувствовал мне, и я попросила дать мне тряпку и ведро, чтобы смыть кровь. Он дал, я стала смывать, а она не смывается, я тру и в голос реву: «Господи, за что на святых отцах такую стенку возвели?» С каждым разом следователь Богданов относился ко мне все мягче и мягче, потом он сказал мне, что понял меня и поверил, что только такие люди спасутся, потому что они не изменили Родине, пошли за Господом, чтобы не нарушить правила Господни, ни одного слова из Писания. Батюшка Михаил у нас был истинный, патриарх Тихон — истинный, и мы шли только по истине. Следователь спрашивал меня, как ему спастись, говорил, что поверил вам, Серафима Денисовна. Он потом стал называть меня на вы, уважительно.
Нам сказали — отрекитесь от Бога, не верьте Богу, идите за коммунистами, подчиняйтесь Советской власти — тогда мы вас отпустим. Когда на суде мне дали последнее слово, меня поставили перед выбором: или отречься от Бога, или продолжать верить, но тогда расстреляют. Потом заменили мне расстрел на двадцать пять лет тюрьмы <…>
Не разрешено было в лагере, но мы настойчиво молились сами, они не разрешали молиться, чтобы открыто. Который надзиратель хороший, он послушает — молятся все, он и уйдет. А если плохой, он уже открывает барак и начинает разгонять, не давал молиться. А вот вольные-то, которые были не в нашем бараке, а в другом, они выпускали. Вот, например, старушки там, они на работу уж не ходили, они где-нибудь за барак зайдут, в уголочек какой-нибудь, кучкой человек, пять-шесть и молятся. В баню какую зайдут, или на склад какой-то и молятся. Их не разгоняли. Я службу всю знала на память, голос у меня был хороший, я певчая, еще одна была певчая, вот начинаем петь, еще кто подойдет, голоса сливаются. И все кругом слушают, как мы молимся вслух. Много раз так было, молились и пели мы открыто. Иконка у меня была маленькая Спасителя, крест на мне был все время. А когда в холодную меня сажали голой, тут уже снимали крест, ничего не давали, сидела, как мать родила.
В бараке женщины не ругались никогда, только не соединялись, например, я с этой группой уже не соединяюсь. А ругаться, нет, не ругались. Какие ссоры, там друг дружку утешали, друг дружку умоляли: «Давайте терпеть будем, давайте терпеть». Я, например, говорю: «У меня отец-наставник, зачем мне плакать, зачем тут скорбеть? За меня там молитва идет, за меня молится отец Михаил, поддерживает и молится за нас. Кого мне бояться? Да и Господь поможет, только на Бога надежда». Там паства была из-под Москвы, они тайно молились, там ребятишки были и женщины молоденькие, семьдесят человек их. Их пастырь наказал им работать в будни, а в праздник, любой праздник, например, Пасха, или Рождество, или Благовещение — не работать. Он сказал им: «Пускай вас мучают, бьют, колотят, все равно не работать. Пойдете в тюрьму за это». Их и забрали сразу всех. Так мы молились, разговаривали с ними, у кого какой пастырь, какое у каждого наставление.
Вера Торгашева: Штрафной барак
Нас в лагере было четверо молодых, которые молились и отказывались от работы. Где-то в пятьдесят первом или пятьдесят втором году выбрали тех, кто помоложе и не работал, человек двадцать пять, и посадили на два месяца в штрафной барак. Наказать решили. Закрыли на замок, поставили парашу и два месяца держали на штрафном пайке: вода и триста грамм хлеба и только на третьи сутки давали тарелку горячего. Июнь-июль месяцы, жарко, душно. Но все равно мы молились и терпели, этот пост выдержали, и никто не заболел и не умер. Мы сидели там, пели, поклоны били и благодарили Бога.

С нами там была матушка Пелагея Рыжова и еще одна монашка. Они научили нас пятисотнице, связали нам четки, и мы клали земные поклоны с Иисусовой молитвой и просили у Бога терпения. Представь — жара и духота, триста грамм хлеба и пятьсот земных поклонов. Мы хоть и падали от истощения, но молились. И не думали, что это нам наказание от Бога, считали, что это испытание, за которое мы должны Его благодарить и молиться. Через два месяца, когда освободили нас, вышли мы из изолятора такие тонкие и легкие, как воздушные бабочки. А Александра, как свечка, едва живая была, качалась, даже в туалет не могла сама ходить, под руки ее водили. И никто не унывал и не роптал, славили Бога за его милость. Старикам там жилось легче, их в карцер не сажали, только нас хотели перевоспитать.
После этого нас в барак поместили, он за частоколом был в углу лагеря. А там собрали христиан со всей России: из Ленинграда, Харькова, Кирова, из Сибири много было. И больше всего нас, молодежи «братского учения», было. Все, кто хотел молиться в бараке, молился тихо, поодиночке. А мы становились и пели на весь барак, никого не боялись. <…>
Обычно в три часа ночи Александра Самарина вставала и начинала зачитывать молитвы. Постепенно и все вставали, так пока старые встанут, она уже все утренние молитвы прочитывала. Надзиратель обычно придет: «А, опять Самарина читает». А она читала, не обращая ни на кого внимания. Летом мы выходили за барак и читали утренние молитвы и акафисты наизусть, потом тихо пели обедали на лужайке все вместе, у кого что было, и из столовой был общий обед. Такая благодать была, радостно было вспоминать!
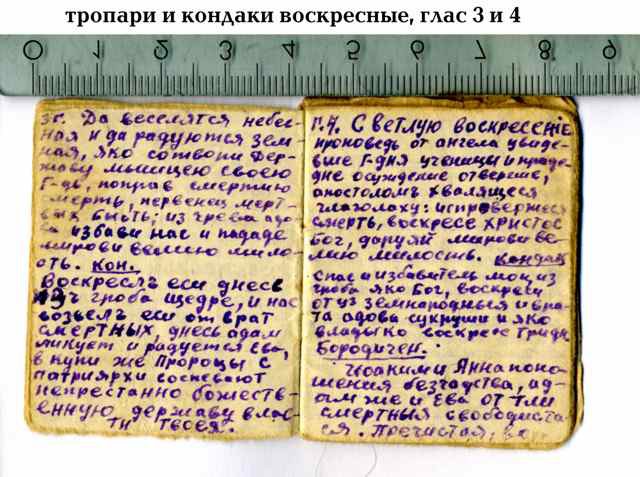
В лагере носили мы одежду свою, казенную не брали. Юбки шили сами, низко повязывали платки, кресты носили, как положено, под одеждой. Когда во внутренней тюрьме наши кресты отобрали, мы сделали крестики из двух палочек, потом кто-то прислал нам металлические крестики. Лапти носили, когда работали, в Глазове в чунях ходили. Мы не боялись ни смерти, ни мучений, ведь «братья» объясняли нам, что веры держаться надо, что за наши мучения мы попадем в царствие Божие.
В Пасхальную ночь кофты, юбки и платки новые надевали, при Сталине-то вставать ночью не разрешалось, так мы молились лежа, читал каждый про себя.
Дежурный идет и кричит: «Замолчи. Чего болтаешь?» Он уйдет, мы между нарами встанем и начнем службу Пасхальную петь и каноны. Дежурный вернется, опять кричит: «По местам! Спать! На нары! Сейчас в карцер отведу».
Мучается-мучается, а утром во всех камерах верующие как запоют! А на улице начальники сидят, слушают. Сначала наказывали нас, а потом начальник режима отступился, махнул на нас рукой. <…>
Меня в лагере никто никогда не трогал, не бил, не толкал, только смеялись: «Какая молодая сидишь!» Я никогда не мечтала о воле и не ждала амнистии или облегчения от власти. Они поставлены на своем месте, чтобы обирать свой народ, а мы, христиане, ждали милости от Бога.
Екатерина Дюкшина : Муж-исповедник
В пятьдесят седьмом Саломея сказала мне: «Кать, а что же Иван Иванович без креста? Давай что-нибудь сделаем, чтоб он крест надел» Я ей: «А ты приди к нам и спроси: «Иван Иванович, вот у Серафимы молятся, а мы ничего не понимаем. Ты грамотный, поймешь ведь, правильно они молятся или нет»». Пошли мы с ним вместе к Серафиме, чтоб он посмотрел, как там молятся, ведь надо как-то завлечь его. А тогда к ней много народу приехало из разных деревень, долго молились и потом говорили, говорили.
Он вернулся и сказал: «Теперь я понял. Они говорят так же, как мама моя рассказывала. Придется и мне по этому пути идти, так мне все это понравилось. И я там один сидел без креста».
Я ему: «Я тебе дам крест. Надень его на себя». Он промолчал. Потом как-то поздно пришел, может часа в два ночи. А утром встали мы, он умылся и спросил: «Дашь мне крестик?» Я радехонька, принесла ему крестик. Он его поцеловал и надел.
Саломея пришла узнать, как дела наши, спросила его: «Ну, Иван Иванович, показалось ли тебе там?» Он ей: «Как не показалось? Там всю правду говорят». Тогда она предложила: «Я в Баланду собираюсь молиться, хочешь, тебя позову? Там тоже все время собираются». А я про себя: «Хоть бы пришли они за ним». Накануне вечером Саломея пришла: «Буду у Вас ночевать. Завтра все вместе пойдем». Пошли мы туда, а там отец Филарет служил. Помолились вместе и потом все разговаривали.
Ивану там еще больше понравилось, он пришел и сказал: «Там вся правда, а мы все неправдой живем. Что теперь делать мне? Партийный билет у меня, завтра е поеду в район и сдам. Они против Бога».
А я стала про себя молиться: «Господи, дай ему разум». Утром поели мы, положила я ему в сумку кусочек хлеба. Взял Иван партийный билет и паспорт, пришел в райком и бросил свой билет на стол. Они спросили: «Чего надумал-то?» А он сказал: «Я надумал Богу молиться». Они стали его ругать, а он стоял на своем. Они засмеялись. В милиции его хотели задержать, но потом отпустили. Пришел домой и сказал: «Меня хотели забрать». А я ему: «Ну, пусть забирают, мало ли сидят наших. Вон Салманида отсидела пять лет, да и все по пять лет отсидели и пришли. И ты посидишь, а потом придешь». И у меня тогда не было страха, а, наоборот, радость была, что Иван пошел по истинному пути. Значит, Господь его хранил, и если убьют, значит, убьют за Христа. Он-то ведь вон как страдал за наши грехи! И за себя я не боялась, что детей могут отобрать.
А через два дня за ним из райисполкома приехали, привезли паспорт и партийный билет, сказали: «Это ты послушал свою растрепу и стал так говорить. Мы знаем, зачем ты молиться задумал. Ты в колхозе работаешь, а колхоз тебе ни в чем не помогает. У тебя ведь изба старая, захотел новую избу вымолить? Так вот — завтра всем колхозом идем в лес, будем деревья рубить, тебе избу строить. Только от председателя не отказывайся». А он им: «У меня бревна во дворе лежат, не надо мне никакого дома». А ведь, действительно, он себе ничего не брал, все людям раздавал: этим выпишет, другим выпишет. Я-то приносила, на ток пойду, украду зерна, положу за пазуху — нас ведь обыскивали. Принесу домой и сварю ему что-нибудь — у нас совсем нечего было есть. Сам-то он ничего не брал.
Уговаривали его по всякому, говорили: «Мы выпишем вам хлеба. Завтра колхоз начнет строить вам дом. Только заберите обратно партбилет». Он ответил: «Нет, не буду председателем. И обратно ничего не возьму. Я пошел по воле Божьей, не отрекусь».
Они тогда ему: «Ну, смотри». И уехали. Потом сняли его с должности. Пришел муж домой, сказал: «Ну, завтра заберут меня». Стал он по ночам валенки валять, пятеро детей ведь было. А через некоторое время пришла повестка в суд. Мы все собрались и пошли. Спрашивали его там, и он все отказывался. А народ, который в зале сидел, удивлялся — от всего отказывался. Что только не говорили! Такую неправду! Потом спросили: «Сколько ты брал за валку валенок?» Он промолчал. Они ему: «Сейчас тебя забираем, дадим пять лет». А он им: «Сколько Богу надо, столько и дадите. Забирайте». Взяли его и осудили на пять лет. <…>
Через некоторое время и мне пришла повестка в суд. Саломея предупредила всех наших. Помолились мы утром, ребят я оставила с соседкой, и пошла на суд. Судья спросила: «У тебя дети молятся?» Я сказала: «Молятся. И утром и вечером со мной». Стали обвинять меня: «Ты в школу детей не пускаешь, молиться их заставляешь». Я им: «Проверяйте! У них только четверки и пятерки. И ни одного пропуска нет».
А суд решил: «Отобрать троих детей!» Оставили мне самых маленьких, их в детдом еще не принимали. Старшим сказали, они заплакали, обняли меня.
Еще день мне разрешили побыть с ними, пришли мы домой, помолились вечером, утром я завтрак им сварила и накормила их. Потом подъехал на лошади сын моей подруги, он приехал детей в детдом забирать, сказал: «Давай собирай их скорей, в сельсовете ждут». А мороз сильный был, я ему: «Они ведь замерзнут». Постелили сено в телегу, положили детей туда и повезли. А я как упала в дверях в обморок, больше уже ничего не помнила. А на другой день подохла лошадь в колхозе, на которой детей моих увезли в детдом. Вот как Господь наказал их!
Пока везли их пятнадцать километров, они замерзать стали. Завезли их в деревню, покормили и согрели там, потом повезли дальше еще двадцать километров. Ночевали у одной татарки и только на третий день приехали в нужное село. У какой-то тетеньки побрили их и привезли в детдом. Детей там было двести или триста человек. Две недели держали детей моих отдельно и с детдомовскими ребятишками не соединяли, чтобы они не научили их молиться. <…>
Пришла дочь на каникулы, а в доме и днем стали молиться. Иван мой после ссылки пошел табун пасти и продолжал молиться, ходил по многим домам. Огород у нас отобрали, и дети набирали в лесу ягод и грибов. Потом дети наши помогали нам во всем: и продуктами, и деньгами. Младший сын, в морфлоте служил. Как-то ехал к нам зимой из Чистополя, чуть не замерз совсем, предупредил, что, если мы будем здесь жить, не приедет больше к нам. И продали мы свой дом, купили дом в Аксубаево и переехали туда. А потом дети построили у нас во дворе свой дом, дочка с нами стала жить. Во время переезда, когда вещи складывали, увидела я возле трубы воск. Откуда, думаю? И вспомнила, как все было… Раньше мы ходили молиться обычно в разные дома: в Мокшино, Васильевку и Киреметь. Собирались ночью, молились, а утром домой шли. Но на Троицу молились всю ночь у нас, и народу из разных сел собиралось очень много, в двух избах молились. Негде было всем разместиться, и кто-то в нашей передней избе на полати залезал, молился там, а свечи около трубы ставил. До сих пор помню — такой молитвы, как у нас на Троицу, никогда больше не было!
Анна Кандалина: Освобождение

Заключенные к нам по-разному относились: «бандеровки» ни хлеба, ни воды не давали, просто переступали через нас и проходили дальше. А «блатные» иногда хлеба давали со словами: «Нате, матушки. Помолитесь». Но и по-другому было. Как-то «блатной» зашел в барак, а мы лежим, уже не ходячие были. «Во, ангелочки», — и вдруг литровую банку в нас запустил. Потом потащил меня, а девчата выбежали, закричали: «Убивают». Спасли меня от него…
Обычно для заключенных в лагере подъем был в шесть часов, потом они шли на завтрак и затем на работу. А мы вставали, умывались и молились, потом шли в столовую за хлебом, чаем, иногда рыбой. Затем опять молились, хотя начальство не давало, так что молились умственно. Молитвы у нас постоянно отнимали, и кресты снимали, потом мы их в вату в одеяле прятали. Помолимся, по лагерю походим, потом опять на молитву.
Потом нас в другой лагерь отвезли, а там приказали выбросить из барака на улицу. И все две недели, пока мы лежали там, дождь шел. А начальник лагеря хотел лошадью затоптать нас, но лошадь перед нами встала. В столовой мы со всеми не ели, нам давали сухим пайком: полторы ложки крупы, одну чайную ложку масла и хлеба. В Магадане был хороший хлеб и такие продукты, которых я не видела даже в Москве, — за золото Америка снабжала. Потом нас, верующих, отделили, и мы совсем без конвоя жили два с половиной года. Знали ведь, что мы не убежим. <…>
Нас освободили в пятьдесят шестом году, и когда освобождали, то потребовали подписать бумагу, что буду молчать обо всем. Но я отказалась, да и документы об освобождении мы отказались брать в руки, их дали сопровождающим.
Когда освободили меня, я заплакала. Вообще, в лагере у нас не было никакой надежды на свободу, мы даже и не мечтали. Просто нельзя было мечтать. Но о смерти мы все равно не думали. И я никогда не плакала там, как бы плохо ни было. Нет, всегда только смеялась.
Ксения Кравченко: После лагеря
В середине пятидесятых вернулась из лагеря Даша Мироненко. Она рассказывала, что допросы ее были всегда ночью. И когда допросы вел мужчина, то было легче, а когда допрашивала женщина в военной форме, то била ее немилосердно, в основном по голове, требуя подписать написанные заранее показания. Даша на все вопросы отвечала молчанием. Однажды следователь пригрозил ей: «Не откажешься от Михаила, расстреляем». И она ответила ему: «Великое дело — пуля в лоб и сразу в Царство Небесное». Он даже удивился: «Вот ты какая!»

В 1956 году она освободилась из Карлага и вернулась в Киев, работала на нескольких работах. Потом купила домик в Ирпене и в одной из комнат оборудовала домашнюю церковь. Позднее к ней присоединилась монахиня Улита Плужник, а в 1960-х с ними стала жить Улита Савон. В 1955 году она приехала из Воркуты сначала в Смелу, работала на заводе и получила там двухкомнатную квартиру. Но постоянно ездила в Киев на могилу матушки Михаилы. Работали все на нескольких работах, жили общиной и соблюдали все правила монашеской жизни. И до конца жизни они убирали могилу матушки Михаилы, ежедневно зажигали там лампадку, а на Пасху раздавали паски. На могиле матушки обычно собиралось много народу на Пасху, слухи были, что здесь похоронена мать Молотова. Иногда монахини не выдерживали и говорили, что здесь похоронена схиигуменья Михаила.
Я их всех, прошедших тюрьмы и лагеря, считала «бескровными мучениками». Все они до конца были крепки в вере и всегда считали себя духовными чадами матушки Михаилы и батюшки Михаила. А в конце шестидесятых и я с ними стала жить.
Матрена Рыбкина: «Тунеядцы»

Потом настал пятьдесят третий год. А раньше, под Рождество Христово, верующей одной, Савельевой Пелагее из Саратовской области, ночью явилась Царица Небесная, явилась ей наяву. Она увидела Ее, упала к ногам, а Та ее подняла и сказала: «Готовься к страданиям Христовым». Утром она нам это рассказала. Вскоре начальство пришло: «Давайте, решайте: кто будет умирать, а кто жить? Кто хочет жить, идите в рабочую бригаду, а кто умирать — здесь оставайтесь, дело ваше. Выбирайте». Многие ушли, и пожилые, и молодые, осталось только двенадцать человек. Решили мы: «За имя Его Святое решаемся на смерть. Как Бог даст, так и будет. Никуда не пойдем». <…>
Настало лето уже. Для нас, верующих, начались новые испытания. Выводили нас в поле за зону и сзади стреляли в нас, мимо ушей свистели пули, но в нас не стреляли — так они испытывали нас. Потом привезли на поле, где заключенные работали, километра за три, и потребовали: «Вставайте и работайте». С рабочими оставили нас на поле, а мы встали на молитву. Целый день простояли, а рабочие сказали нам: «Что вы стоите? Они за вами не приедут, идите пешком к себе в барак». Тогда помолились и пошли мы. Потом никто нас уже не трогал, не пытал, будем ли мы работать или нет. К осени стали давать нам помидоры, арбузы, дыни, мы поправились. Стали из лагеря отпускать, бумаги приходили из Москвы, кого по окончании срока, кого по амнистии. <…>
Наконец, в сентябре пятьдесят пятого года пришли мои бумаги, сказали мне, что меня освободили и реабилитировали. Я написала письмо Арсению Емельяновичу Иващенко, он ответил мне. Я написала потом, что жить мне негде, работать я не могу, больная и измученная, не знаю теперь, где и как жить дальше. Он прислал мне письмо, объяснил, что можно в трех местах жить: на Кавказе, в Батайске и в Козловке. И мне можно любое место выбрать, где захочу жить. Я нигде сроду не была, выбрала Кавказ. Там мать с дочерью жили, тоже верующие, они готовы были принять меня как свою. Поехала к ним. Обрадовались они, приняли, стала я с ними жить. Год прожила, летом в сад ходила, а там виноград, яблоки, много всяких фруктов. В декабре меня вызвали в Батайск к Вере Артемовой. Я выехала туда и до шестьдесят первого года жила у Веры.
А тут стали отправлять на ссылку «тунеядцев». Вызвали меня к Арсению Иващенко, там еще две сестры Орловых были, их тоже должны были отправить в ссылку. Захватили меня вместе с ними, осудили на пять лет ссылки, и отправили всех в Сибирь. Везли нас через Мордовию. В Рузаевской тюрьме завели в камеру, а там лишь четверо верующих было, остальные из мордвы, такие грубые. Стали они по-всякому обзывать нас, а я сказала: «Мы не преступники, мы за Христа». Они схватили меня, за руки вывели в коридор и повели. Шли долго, в конце коридора подвал был, спустили меня туда и закрыли в маленьком карцере. Что делать? Стала я петь псалмы, какие наизусть знала. Они в волчок посмотрели, понаблюдали и ушли.
Немного времени прошло, слышу, затопали по коридору, закричали. Шум, гам, в чем дело — не знаю. Пришел кто-то, в волчок на меня смотрел, видел, что я одна сижу и пою псалмы. Потом уж оказалось, что по всей тюрьме вдруг ангельский хор запел, и никто понять не мог, где это, откуда взялся этот хор и что делать. В камеру, откуда меня увели, охрана стала кулаками барабанить, кричать: «Перестанете петь?» А те им: «Да мы сидим и молчим. Мы давно уже затихли и молчим». Действительно, никто там не пел, охрана не знала, где же тогда поет этот небесный хор. А я в подвале продолжала петь псалмы. Они бегали-бегали. Потом меня оттуда выпустили и в камеру вернули. И сразу пение прекратилось… Верующие рассказали мне о панике в тюрьме, как барабанили к ним, кричали, чтобы перестали петь.
Мария Стасенко: «Богомолы»
И после суда в пятьдесят восьмом году притеснения верующих продолжались: одного посадили, второго на ссылку сослали. У меня обыска не делали, а в остальные дома часто приходили и все там отбирали, и книги, и иконы. Оставшиеся иконы мы между семьями распределили, но и их забрали, иконы-то старые были. У Катерины пятеро детей было, так в шестьдесят пятом троих старших отобрали, на сани побросали, придавили и увезли в детдом, а она в обморок упала. Потом сын и дочь сбежали, а младшую послали в Кустанай, и муж ее ездил туда, продав последнюю овечку на дорогу.
И меня один из сельсовета постоянно вызывал с работы, нервы трепал, все допрашивал: «Куда ходите молиться? Кто туда ходит? Как вы там молитесь?» Я ему: «Как молимся, так и молимся. Приди, да послушай. В основном по домам молимся, а в большие праздники на Святых ключах. Не запрещено ведь на ключах молиться». <…>
Раньше ведь нам ни огорода не давали, ничего, все отнимали, говорили: «Эй, «богомолы», пусть вам Бог подаст». Мы ходили, копали огороды, там кормили нас, может рубль дадут и ладно. Осенью зарабатывали, тоже копали, и сестры муж помогал, раствор месили, строили и много чего делали. Потом сказали оставить квартиру, но пришла знакомая-верующая и предложила: «Помогу тебе. Будешь работать, пасти табун». Я ей: «Три девчонки остались, на кого я их брошу. Пасти-то ведь надо весной и до самого снега». Все-таки решила, никакого выхода не было, пошла пасти. Год проработала и смогла купить маленькую избушку, как баню. Перезимовали в этой избе, на второй год опять пошла пасти. А дети растут, надо их одевать. Ездили в Кошки, два года на уборочную, зерно молотили. После этого дед один взял меня в помощники лес рубить. Так и работала все время, то больница наймет, то клуб дров нарубить.
Христианка: Детство
Нас в семье четверо детей было. Отец с нами жил до последнего. Молились в семье очень усердно, мама с детства приучала нас молиться и утром, и вечером, акафисты читала. Но в официальную церковь мы не ходили, только по домам молились. Мама объяснила нам, что наша Церковь Истинно-Православная, так мы и думали. Так и пошло.
Кресты я носила с самого детства, и в школе к нам всегда с насмешкой относились. Но не били, да мы больно то бить не давали, они нас «сектантами» называли и «богомольцами». А мы с подругой выйдем, налупим их — вот и весь наш ответ. Я не была ни пионеркой, ни комсомолкой. Потом на работе говорят, давай в партию. А я говорю: «Меня даже в пионеры не брали. Я ведь ненадежный человек в партии». Я четыре класса только кончила, тогда силком не заставляли. Потом пришлось, правда, взрослой уже в вечернюю школу ходить. Чуть повзрослела, надо, думаю, десять классов кончить.
Исповедоваться и на литургию ходили к тете Елене Кульковой. Кроватку выносили, дверь в сенях открывали — до пятидесяти человек и больше было на службе. Когда к ней собирались идти, заранее спрашивали: «Милиция не ходит?» Когда к ней собирались идти, заранее спрашивали: «Милиция не ходит?» Молились, но если в двенадцать ночи стук какой, замолкали сразу. И кто-нибудь выходил и спрашивал. Наверное, за отца Филарета или за дядю Василия боялись. Они всегда на страже были, и разговор их между собой был тихим, остерегались они. Они всегда боялись – дядя Василий и Филарет. Они всегда были на страже. Всегда у них разговор какой-то: «Вот как бы это… как бы это…» Краем уха я слышала. Всегда они остерегались. Они чувствовали, наверное, что их должны скоро взять. И их все-таки посадили в пятьдесят восьмом году. Нам тогда было десять-двенадцать лет. Кто нас заберет?
Зоя: Пришла милиция
Однажды была служба у бабушки Елены, и в это время пришла милиция. Сказали: «Прекращайте службу, тушите свечи». А Мария Прокопьевна, Ленечка и я впереди стояли. Я читала Псалтырь, я все молитвы хорошо читала. А Ленечка мне: «Продолжай, читай». Я испугалась, полезла свечи тушить, у меня рукав и загорелся, руку жжет. Сильно обожгла я руку. Милиция нам: «Все, прекращайте». А мы продолжаем молиться. Тогда нас забрали и отвезли в Аксубаево. А начальник милиции Ондиков меня за голову взял, да как об стенку ударит: «Ты все равно знаешь, где Русаков, ты же постоянно с ним». Филарет-то Русаков как раз уехал, а они думали, что он с нами был, поэтому и пришли. Я кричу: «Не знаю». Начал он меня головой об стенку бить и приговаривать: «Все равно скажешь, где Русаков». А я тогда ведь несовершеннолетняя была, они не имели права забирать меня. Потом отпустили нас, и я в Старое Мокшино пришла.
Нас все время караулили, без конца следили за нами, мы, как на иголках, жили. Отец Филарет, бедный, нигде спокойно не мог находиться. Все у нас было в тайне, ведь на каждом шагу преследовали. Когда меня об стенку били, я ведь прекрасно знала, где батюшка Филарет, но все равно не сказала. Он спрятан был у нас, чтоб никто не видел и не знал этого. Он никому не показывался, даже соседи не видели. По улице никогда не ходил, проходил всегда через зады, огородом — его мало кто видел. Он такой заметный был, хоть и одет простенько — высокий, волосы длинные, борода такая окладистая. Сразу видать, что за человек… <…>
Когда мы собирались, страх был лишь в одном — чтоб только на глаза никому не попасться. А в село, куда приходишь — там же предатель на предателе, уже идешь туда и боишься. Но когда Филарет нас благословлял, с нами ничего не случалось. Нас не ловили и не трогали, ничего не было с нами. Он благословлял: «Не ослушайся, крестница, иди. Я благословил тебя, никто тебя не тронет». И шла одна с Божьей помощью. А если батюшка Святые дары или еще что забыл у тети Насти Красновой в Аксубаево, то говорил: «Иди, принеси». И шла днем через лес, плакала от страха, но шла! А ведь от Мокшино до Аксубаево пятнадцать километров было, да назад вернуться надо. И все равно шла и приносила, чего надо. Ночью-то он меня не посылал, знал, что я не выйду, страсть как боялась… <…>
А Василий ходил свободно, не прятался. Милиции был нужен только Русаков, он, дескать, молодежь портит. Им же, властям, самое главное, чтоб молодые не молились. Батюшку одного только и искали, больше никого не трогали. Мужики поют, стены в избе дрожат, но если батюшки нет, никого не трогали, им никто не нужен был. Помню, в каком-то доме отец Филарет читал проповедь: «В кино не стесняетесь ходить, без платков ходите. Бога не боитесь, а крест одеть боитесь». Его тогда прямо со службы забрали, правда, потом отпустили.
О тюрьме мы не думали, старались избежать ее, прятались, скрывались. Раньше не то, что милиционер, несчастный председатель мог хуже засадить. Это и спасало нас, что прятались. Нам-то не страшно было, нас не трогали, но за батюшку нам было страшно. Сердце у всех болело — вдруг его заберут. И что мы без него? Он нас исповедовал, чуть ли не каждый день причащал. Какие у нас грехи? Когда мы день и ночь на молитве, только лишь мыслями и согрешишь. Батюшка Филарет нам говорил: «Я — пастырь, вы — мои овцы». Так он говорил. И нам ни встречаться, ни любить кого нельзя было, мы только молитву знали. <…>
А в пятьдесят восьмом многих арестовали, среди них и отца Филарета, а потом всех осудили. Когда батюшку Филарета посадили, он благословил меня жить у наших верующих…
60-е годы

Вера Сазонова: Литургия дома
В шестьдесят пятом году венчалась я с Александром Михайловичем Сазоновым. Их семья была с «иосифлянами» с самого начала, ходили они в храм Воскресения на Крови. Старший брат, Петр Михайлович Сазонов, был иподьяконом у владыки Димитрия (Любимова). В тридцатом его арестовали и отправили в лагерь, он отсидел пять лет, вернулся. Потом поехал в ссылку к митрополиту Иосифу (Петровых) в Казахстан, повез цитру, которую Александр Михайлович со своим другом ему сделали. У митрополита Иосифа служили в подвале… И вот там, в Казахстане, Петр Михайлович был вместе с митрополитом арестован, отсидел в лагере, потом был в ссылке и вернулся в середине пятидесятых, когда все возвращались, жил еще какое-то время в Окуловке. Александр Михайлович еще писал ему: «Петенька, я нашел девушку-ангела». А тот отвечал «Шуренька, не забывай, что все девушки ангелы. Откуда только берутся жены?» Ласкали друг друга братики. Так старший братик двадцать пять лет провел в лагерях и ссылках, умер уже в Питере в семьдесят втором или семьдесят третьем году.
Отец их, Михаил Иванович Сазонов, работал наборщиком в типографии и был в «двадцатке» храма Воскресения на Крови. Арестовали его, наверное, в конце двадцать девятого, сколько дали, не знаю, потом он вернулся. Жили они в Старо-Паново, в их доме служил тайно «иосифлянский» иеромонах Мелетий. <…>
Отец Михаил стал приезжать и в Питер, и в Стрельну, и в Кировск, и в другие места — исповедовал, причащал, соборовал, крестил, венчал. Нас с Александром Михайловичем венчал в Кировске, венцы сшитые на голову надевали, Алексей Петрович Соловьев был у нас посаженным отцом, благословлял нас иконой Святой мученицы Веры и Св. благоверного князя Александра.<…>
Причащал он обычно Запасными Дарами, Литургию служил у себя дома. В последние годы, если ему не удавалось приехать Великим Постом, он благословлял нас причащаться Запасными Дарами: ему отвозили исповеди, а оттуда везли Запасные Дары во флакончиках. В Великую среду на Страстной седмице с восьми часов вечера он читал исповеди, а нам говорил, чтобы мы читали или исповедь вот эту по тетрадке, или службы, лишь бы мы были на молитве. Он в это время читал разрешительную молитву. Утром, после молитв мы уже могли причащаться. От отца Тихона, когда принимали, открывали Евангелие и на слова «Примите, сие есть Тело Мое» из специальной банки аккуратненько частички опускали, и потом вот так брали с Евангелия. А отец Михаила учил нас: «Нет, так не надо. Поклон, приложились ко Кресту и Евангелию, потом в левую руку флакончик и правой поддерживаем». Тут уже запивка приготовлена и антидор, один принимает, остальные поют «Тело Христово».<…>
Когда я Мишу родила, в палату в роддоме пришла заведующая. Рубашку мою подняла:
— А это что?
— Крест.
— Снять!
— Я его не вешала. Кто повесил, тот пусть и снимет. А его уже нет в живых.
— Это что такое?! Пятьдесят лет советской власти! Сто лет исполняется нашему дорогому… «порхатому, плешивому» [Вера Федоровна добавляет скороговоркой]. А тут кто с крестом, кто с хвостом!
— еще что-то прибавила и помчалась по коридору. Ворвалась в приемное:
— Кого принимали, с чем принимали?
— Вот ее цепочка с золотым крестом
— А как у нее на шее крест?
— А это уж не знаем как…
А я крест приколола в носовой платочек, а в душ повели, я в карман халата платочек и положила. Это было в шестьдесят девятом году.
Aнна Лавреньтьева: Сибирь
В шестьдесят первом году опять арестовали нас, теперь за «тунеядство». Приговорили к высылке и отправили сначала в Красноярск, а потом перевели в Сузун Новосибирской, где я раньше была. Мы там опять отказались от работы, и нас отправили в тюрьму, а через четыре месяца — на суд. Потом вновь отправили в лагерь, в Новосибирск или в Кемерово, там мы опять отказались от работы. Через две недели нас в тюрьму, а через четыре месяца на суд, и опять — в лагерь…
В Сибири нас, верующих, было около ста пятидесяти человек со всех концов России: из Саратова, с Кубани, Воронежа и так далее. И здесь мы продолжали молиться, никогда не стеснялись и громко пели, а окружающие так молчали, что муху слышно было, как пролетала. Какие страдания перенесли мы ради Христа, и — живые! Нам восемнадцать лет было, и мы с такой радостью шли пострадать за Христа! В Липецкой тюрьме спрашивали: «Сколько дали?» А мы: «Слава Богу, задом наперед, десять и пять». Мы радовались! Как мы шли девять человек по одному делу, так нас почти все десять лет не разъединяли. Мы так и шли. И судили нас, и рядили нас, и били, и колотили, — все с нами делали… С такими молодыми! Ну, кто сейчас решится на такой подвиг, как мы решались? На смерть шли, не щадили себя…
Игуменя Ксения: Поездки с “покаяниями”
Ездила я потом постоянно к батюшке Амвросию, часто с инокиней Евникией, возили «покаяния» (письменные исповеди). Один раз остановила нас милиция, мы сильно напугались, — в корзинах везли свечи и целый ворох «покаяний». Но все обошлось, встречал нас человек — знакомый милиционера. Порой мать Евникия посылала меня одну отвозить исповеди. Страшно было, но за послушание ездила. Где бы ни была, даже в поезде, я перед едой обязательно крестилась: «А все вокруг лупятся…» Однажды мне стала плохо в поезде, — сердечный приступ. Прямо умирала, подумала: «Умру, выкинут из поезда, так выкинут». Только в Канаше стало лучше… Однажды в поезде я познакомилась со старушкой, и она тоже оказалась из катакомбников, тоже тайно ехала к священнику.
Отец Амвросий принимал исповеди и доверял мне отвезти Запасные Святые Дары по числу приславших исповеди. Обычно он назначал время, когда все, написавшие исповеди, должны были собраться. Они молились, готовились ко Святому Причастию. А он у себя в это же время читал разрешительную молитву. Запасные Дары выкладывались на икону, и каждый, сложив руки крестообразно, подходил и принимал святыню. Сначала отец Амвросий это не практиковал.
Но позже ему привезли старинную книгу, где описывалось, как в древние времена при гонениях христиане могли сами причащаться. И поскольку паства у него была обширная, и всем невозможно было приезжать, он стал доверять Запасные Дары монахиням.
Обычно это происходило Рождественским и Великим постами. Очень редко, когда Успенским, и никогда Петровским, поскольку летом при длинном световом дне трудно было скрытно под покровом ночи добраться до его жилища.
Обычно я приезжала вечером и ночью шла в ближайший дом к монахине, и уже оттуда мы шли тайком в дом к батюшке Амвросию. Как-то везла я две сумки исповедей (людей было много у них), а нужно было пройти полем в полной темноте три километра. Грязь непролазная, чернозем. Через речку мостик был очень хлипкий, и я упала туда головой вниз. Еле-еле выбралась, вся в грязи с головы до ног вымазалась, как свинья. Добрела до ближайшего домика монахини, та всплеснула руками, увидев меня: «Батюшки, матушка». Скорей печку растопила, стала отмывать, к отцу Амвросию пошли только на следующую ночь.
Паства батюшки, особенно монашествующие строго постились. Монахи и монахини рыбу не ели в понедельник, среду и пятницу. Инокиням разрешали рыбу в понедельник. В Великий пост постное масло дозволялось только в субботу и воскресенье. В первую седмицу — хлеб и вода. Батюшка Амвросий говорил: «Можно и три раза поесть, но не досыта, чем ты наешься один раз. Какой это пост? Надо оставлять место Св. Духу». Сам был высокий худенький, «кожа да кости». Монахам не разрешал больно вкусное есть. Как-то обедали: матушка Агния сварила очень вкусный борщ. Все с таким аппетитом ели. А он взял, да и варенья в него наложил. Они: «Батюшка!» А он: «Ничего, ничего…» И все — молчок. Не любил, чтоб нам монахам со вкусом есть. И матушки все худенькие были, которые работали, тем разрешал молоко и яйца есть. Но вкусного не было. Да и не на что было покупать-то, если кто и принесет рыбы, — верующие подавали. Те, кто в колхоз не вступали, держали коровок, — давали молоко. Помогали и деньгами, вообще, друг другу помогали. Если у кого чего не хватало, помогали. Если у старушки нет денег на уголь, соберут, привезут и угля, и дров на растопку.
Отец Амвросий все время спрашивал приезжающих к нему о епископах, не слышал ли кто что-нибудь. С заграницей не хотел связываться, говорил, что если здесь не разберешься, кто истинный, то там тем более можно легко в яму попасть. Хотел искать епископов, но вскоре заболел и умер в 1966 году, 14 октября.
Надежда Леонтьева: У сектантов
Родители мои тоже верующие были, на праздник или под праздник мама всегда зажигала лампадочку. Мама приучала нас к порядку, всегда говорила нам, чтобы не воровали и чужое не брали. Мы уже в школе учились, и когда лампада горела, подруги и друзья смеялись, мол, что это у вас там светится. А когда свет в селе проводили, то родители считали, что это грех, боялись. А мы молодые еще были, и нам дюже хотелось, чтобы провели свет. Ну, как же это, у всех свет есть, а у нас нет. И настояли мы все-таки, в шестьдесят восьмом году провели нам свет.
В школу мы ходили, конечно, там такого сильного гонения не было на нас. И крестики носили мы, хоть и смеялись над нами, мы за рубашку их привязывали, чтоб не видно было, но без креста мы не ходили. Ну, от ребят прятали, потому что заглядывали за рубашку, но крестики носили. Мать говорила всегда: «Ни в коем случае, чтоб хоть один день без креста быть». Галстуки-то нам, конечно, надели, хотя мама была очень против. Она нам даже не покупала галстуки, нам девчонки в школе дали свои, и нам повязали их. Мама даже не знала, что нам галстуки-то надели. А по поводу комсомола она нам очень жестко сказала, чтобы ни в коем случае: «Смотрите, девчата, как хотите. Но если не послушаете мать, то тогда я больше не в силах». Так что в школе мы в комсомол не вступили.
Тогда в нашем селе пошли всякие разговоры о верующих, что творят они какие-то неподобные дела, собираются в избе, тушат свет, что у них там шум и визг. А мы, малолетки, обычно у клуба собирались, ребята, девчонки. И тут кто-то предложил: «Давайте сходим, посмотрим, что там делается у сектантов. Но только, когда убегать будем, смотрите, чтоб никого не растерять, если за нами погонятся». И я в этом участие принимала, я же с ними вместе ходила. Вот подошли мы к избе Евдокии Воробьевой гурьбой, человек двенадцать нас было, ребят и девчат. Подошли, а в доме — тишина и спокойствие, только в окошке что-то блестело, видно, лампада горела. И тишина была удивительная. Ну, подошли мы, похихикали, погагакали возле дома. Потом кто-то из наших сказал, что, наверно, они собрались в другом доме и там, дескать, в жертву приносят. Так и ушли ни с чем.
А дома пришла мамка, я ей и сказала: «Мам, вот все же эти люди молятся, так и мы давайте молиться. Как молились, так и будем молиться, что мы умнее всех, что ли». А мама нам: «Девки, я вас не заставляю молиться, не принуждаю вас. Вы только сходите туда и посмотрите, как там».
Вот мы и пошли туда. И нас, действительно, поразило, что там тишина и спокойствие. Один читал, все слушали, потом запели все. Пропели, затем кто-то задал вопрос, и они обсудили. В общем, беседа была. И нам все очень понравилось. Никто нас тогда не заставлял и не принуждал, только мама сказала просто: «Посмотрите». И тогда мы сами убедились, что там, действительно, истина, что там сам Христос.
И когда мы домой пришли, то я сама мамке сказала, что раз уже мы пошли туда, то нужно уже идти бесповоротно. И что неважно, кто что будет говорить, пусть, что хотят, говорят, а ради этого нужно все перенести. А все, что говорят про них, это ложь. Никому не верить, раз сами мы убедились, сами посмотрели и пришли к такому, что, действительно, там истина. И с тех пор мы сами стали посещать их службы и веровать. И смеялись над нами, и обзывали всячески, да и сейчас я могу услышать в любое время любое слово. Но мы верим, и это самое главное.
А ведь когда мать с отцом пришли на этот собор Христов, то местные стали творить произвол, может, и не взрослые даже. На крыльцо подбрасывали горящую куклу, вроде, из тряпки ее делали, зажигали и подбрасывали. Однажды из дров наших двухметровых выбрали одно, какое потолще, и поставили к двери с обратной стороны. Дверь-то избы открывалась вовнутрь, и, если из сеней выходишь, то оно ударит тебя, падая, прямо в лоб. А мне тогда подружки стали говорить, что раз родители твои пошли в эту веру, то тебя, Надя, в жертву принесут.
В семье нас девочек двое, я младшая и испугалась, мамку стала спрашивать: «Мам, а меня в жертву отдадут? Неужели тебе меня не жалко будет, когда меня в жертву принесут?» А она мне: «Да ну что ты? Там этим не занимаются». А потом, когда мы сами все увидели, то поняли, что в жертву истинно-православные христиане никого не приносят. Наоборот даже, ты сам хочешь отдать себя в жертву ради веры. И жертвы-то духовной…
Анна Кандалина: Психбольница
Приехала на родину, а в шестьдесят первом меня опять арестовали. И в тюрьму меня на носилках несли в «воронок», я тогда не ходячая была. А в шестьдесят втором опять меня судили и дали пять лет ссылки. Привезли в Иркутск, а мне работать нельзя было.
Направили тогда в психбольницу на обследование. А там допросы, гипноз, и задавали вопросы глубокие: «Есть ли Бог? Можете ли это доказать? Первое Пришествие — дух принял плоть. Второе Пришествие — плоть приняла дух». Разговор вялый был, я вся бледная была, да и нервы совсем больные. Как наш пастырь говорил: «Совсем с места тронутая». Потом отправили меня в Сосновые Родники на реку Чуна, за Братскую ГЭС. И там начальник сжалился надо мной, помог устроиться, меня ведь никто не брал на квартиру. В том поселке я ни с кем не разговаривала и не здоровалась. Там невозможно было жить, если бы я открыто перекрестилась, меня бы убили, — все пришлось тайно делать. А потом обвинили меня, будто я шпионка, сообщаю что-то по рации в Америку. Но Господь меня сохранил там. Освободили меня из ссылки из-за болезни через полтора года. И вернулась я домой. <…>
И что это такое — реабилитация?.. Я ни от чего отрекаться не хочу, чтобы все это забылось и загладилось…

Из воспоминаний истинно-православных христианок:
Александра Окунева, 1919 г.р., 5 лет в лагере
Александра Самарина, 1924 г.р., 8 лет в лагере
Александра Халчевская, 1924 г.р., 5 лет в лагере
Анастасия Лизунова, 1918 г.р.
Анна Кандалина, 1926-2009, 7 лет в лагере
Анна Лаврентьева, 1926 г.р., 11 лет в лагере
Анна Чеснокова, 1920 г.р., 5 лет в лагере
Валентина Яснопольская (Ждан), 1905 г.р., 2 года в лагере
Вера Сазонова, 1928 г.р.,
Вера Торгашова,1928 г.р., 7 лет в лагере
Екатерина Дюкшина
игуменья Евфросинья (Елизавета Махрова), 1919-2003
Зоя
монахиня Ксения, 1921 г.р.,
Ксения Кравченко, 1921-1999,
игуменья Маргарита Чеботарева, 1911 г.р.,
Мария Стасенко, 1927 г.р.
Матрена Рыбкина, 1922 г.р.,
Матрена Чеснокова, 1914 г.р., 5 лет в лагере
Любовь
Надежда Леонтьева
Наталия Гончарова, 1925 г.р., 13 лет лагерей и ссылок
Серафима Аликина, 1916 г.р., 3 года в лагере
Монахиня Сергия
Христианка (имя не названо)
Использованы материалы сайта http://www.histor-ipt-kt.org/





